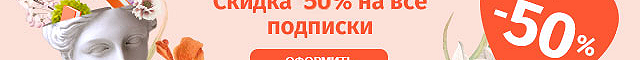
Роман в школе поэзии
С другой стороны, вопрос о том, как создавать романы, которые были бы настоящими гениальными произведениями, с самого начала породил ответ, конкурирующий с принципом равенства и правдоподобия. Хотя он получил достаточную поддержку среди романистов лишь во второй половине XIX века, а под знаменем модернизма закрепился только в начале XX века, этот другой ответ уже давно был сформулирован представителями немецкого романтизма [4]. Романтики трактовали наступление эпохи модерна не как победу объективности над заблуждением и суеверием, а как революцию, по сути, поэтическую, призванную освободить субъекта и открыть ему доступ в глубины мира. Задача современной художественной системы, как они полагали, состояла в том, чтобы покончить с ограничениями ремесла и способствовать свободе творца; а поскольку, по их мнению, сила каждого искусства напрямую зависела от индивидуального гения художников, а не от сложившейся техники ремесла, то будущие шедевры они рассматривали как творения, которые благодаря свободному гению их автора будут реализовывать сущность искусства в постоянно обновляющемся виде. Они требовали, чтобы роман присоединился к этой революции и, вместо того чтобы унижаться перед лицом эмпирической реальности, вобрал в себя уроки лирической поэзии – бесспорной движущей силы зарождающегося великого движения. При таком изменении направления роман был призван оторваться от прозаического подражания человеческой деятельности и стать достойным воссоздания первозданного духовного единства поэзии. Благодаря своей пресловутой гибкости с того момента, когда жила реализма стала иссякать, роман охотно прошел школу поэзии и, как обычно, добился прекрасных результатов, особенно в первой половине ХХ века. Такая захватывающая перемена тем не менее имела важные теоретические и практические последствия.
Поэзии (в том благородном смысле, который придавали этой деятельности романтики) в принципе суждено было стать высшим выражением сущности мира, поэтому романисты, стремившиеся ей подражать, испытывали определенный стыд за свое прежнее ремесленное мастерство и убеждали себя в том, что придумывать ладно скроенные сюжеты, изображать стремления и несовершенства человека, предлагать читателю честные нравственные и социальные уроки – это, пожалуй, недостаточно возвышенные цели. Серьезно относясь к новой программе, талантливые романисты первой половины ХХ века поставили перед собой задачу передать поэтическое единство мира, задачу, по сути, неблагодарную и к которой их ничто не готовило.
Ибо речь шла уже не о том, чтобы предложить читателю яркую, даже образцовую, картину четко выделенного фрагмента социальной жизни, а о том, чтобы заставить его почувствовать безмолвную тайну мира, воплощенную в совершенстве текста. Не теряя при этом ни близости к разговорной речи, ни точности, заимствованной из Гражданского кодекса, стиль перестал быть вспомогательным элементом, функция которого сводилась к адекватному усилению сообщения; теперь от него ждали самостоятельного сияния, независимого от породившего его повествования. Доведенное до крайности стремление к самодостаточному формальному успеху породило мираж «Книги ни о чем», которая, по часто цитируемому выражению Флобера, «держалась бы сама по себе, внутренней силой своего стиля, как земля держится в воздухе без всякой опоры» [5]. Совершенство стиля стало самоцелью, а анекдот, по крайней мере в принципе, был сведен к тому, чтобы служить поводом для письма.
Учение романтизма, усвоенное модернизмом, также настаивало на главенстве субъективности. Поэтическое единство мира, безмолвно выражаемое формальной силой произведений, должно было раскрыться только в тайне внутренней жизни. А поскольку душа поэта призвана быть и зеркалом, и живым источником мира, то считалось, что самый короткий и скромный субъективный опыт хранит столько же вечных драгоценностей, сколько небесный свод. Таким образом, главной задачей искусства, в том числе и искусства романа, стала задача взять из жизни и посредством магии формы показать совместное рождение субъекта и мира. Преображенная культом субъективности, «Книга ни о чем» в мгновение ока стала «Книгой обо всём» [6].
Естественно, творцы и критики считали, что связь с миром произведения, задуманного и написанного в соответствии с этими заповедями, может оставаться миметической лишь на поверхностном и вспомогательном уровне. Авторы великих модернистских романов, конечно, продолжали выдумывать персонажей и рассказывать об их злоключениях, но эти выдумки и эти рассказы в принципе не должны были играть никакой другой роли, кроме мотива (в том смысле, в каком этот термин используется в живописи), то есть простой отправной точки для создания произведения, эффект которого возникал бы прежде всего из силы формы и энергии ее субъективных резонансов.
Несмотря на способность к адаптации, огромные резервы доброй воли и незабываемое качество произведений, созданных по новому методу, романисты, призванные решать столь обременительные и далекие от привычек своего ремесла задачи, вряд ли могли не испытывать двойственный дискомфорт. С одной стороны, практиков, которые, будучи привязанными к традиции, не до конца перешли на новую поэтику, постепенно вытесняли за пределы хорошего вкуса, притом что они не понимали и не принимали резонов подобной немилости. С другой стороны, у некоторых новаторов, действительно принявших эгиду поэзии, – при взгляде на шедевры, созданные модернизмом, – возникало неясное сомнение: не упустили ли они из рук добычу, предпочтя самость миру и стиль материи. Это сомнение усиливалось уверенностью в том, что мистика Уникальной книги, художественного письма и примата субъективности порождала культ редких творений, которые поднимались до ее уровня, но эти счастливые исключения по определению должны были сильно выделяться из массы романов. Но, в отличие от эпоса, который уникален по своей природе, роман не может жить исключениями. Это жанр, присущий большому количеству произведений.
Чтобы утешить многочисленных собратьев по перу, чьи усилия не привели к чуду шедевра, наиболее верные приверженцы поэтического выбора, в том числе и Морис Бланшо, объясняли, что искусство романа по своей природе было искусством криводушия и неизбежного провала. И хотя в современном производстве модернистских произведений действительно присутствовала определенная доля криводушия, это криводушие, отнюдь не воплощавшее отношения писателя с поэтическим Абсолютом, в значительной степени было обусловлено решениями практического характера: среди художественных произведений, созданных согласно заветам современной поэзии, шансы на одобрение публики имели только те, авторов которых по-прежнему интересовал мотив, а именно герои и их приключения. Но именно интерес к мотиву был сильной стороной романа задолго до возникновения поэтической модели, когда его искусство заключалось во внимательном наблюдении за миром и построении правдоподобных повествований. И поскольку во многих модернистских романах стилистическая живость и внимание к субъективному опыту всё же сосуществовали с наблюдением за миром, с построением ярких сюжетов и изобретением колоритных персонажей, было ясно, что искусство романа не в полной мере восприняло поэтическую революцию.
Как господство правдоподобия в XVIII и XIX веках не исключило раз и навсегда идеализм старых романов, так и модернизм, понимаемый как попытка объединить культ формы и культ субъективности, не мог сам по себе объяснить принципы, на которых строились великие романы ХХ века. И если революционность позиций модернизма заставила его минимизировать вес обычаев и мудрость привычек правдоподобия, то практика модернистского романа, исподволь восстанавливая равновесие, продолжала следовать этим обычаям и этой мудрости, украшая их самыми изысканными формалистическими и субъективными прикрасами. Чтобы убедиться в этом, достаточно немного поскрести эстетизм Пруста, и вы сразу же увидите сен-симоновские и бальзаковские основы; если не обращать внимания на провокации Селина, вы сразу же услышите почтенные отголоски плутовского романа.
Вымышленное прошлое романа
С выживанием прошлого в настоящем тем не менее было трудно смириться. Как романы XVIII и XIX веков считали, что окончательно изжили предшествовавшие им повествовательные формы, так и модернизм предстал как необратимое преодоление памяти романа. И как в случае с эгалитарным идеализмом в XVIII веке и социальным реализмом в XIX, успешная смена режима сделала практически невозможным понимание предшествовавшего ему состояния вещей. В таких ситуациях одинаково велик соблазн преувеличить разницу между новой системой и прежним состоянием мира, который в ретроспективе приобретает неправдоподобную однородность, или, наоборот, спроецировать в прошлое трансформационный импульс, его предпочтения и фобии. Прошлое в этом случае становится либо местом отвратительной инаковости, либо местом самой обнадеживающей идентичности, населенной исключительно врагами или предшественниками. Мнения сюрреалистов и русских формалистов о великом романе второй половины XIX века являются яркой иллюстрацией этих двух взаимодополняющих взглядов.
Сюрреалисты разыграли карту возмущенного неприятия прошлого. Знаменитыми остались слова Андре Бретона: «Вслед за судом над материалистической точкой зрения следует устроить суд над точкой зрения реалистической. < … > Реалистическая точка зрения, вдохновлявшаяся – от святого Фомы до Анатоля Франса – позитивизмом, представляется мне глубоко враждебной любому интеллектуальному и нравственному порыву. Она внушает мне чувство ужаса, ибо представляет собой плод всяческой посредственности, ненависти и плотского самодовольства» [7]. Обилие и легкость так называемых реалистических романов, описательная техника, психология персонажей и мотивация в свою очередь подлежат осуждению во имя чудесного, во имя магического изобретения, лирического поиска «изнанки реальности».
Русские формалисты, столь же привязанные к поэтическому модернизму, как и французские сюрреалисты, инстинктивно пошли по противоположному пути и с умилением обнаружили в литературном прошлом вечное повторение и провозглашение собственных проектов. История литературы, утверждали русские формалисты, всегда была историей технических новаций, а самым типичным успехом в истории жанра был «Тристрам Шенди» Стерна, произведение, в котором неиссякаемый пыл рассказчика выражается в стиле, насыщенном формальными чарами. (Этот парадокс имел долгую жизнь; он был поддержан еще Фридрихом Шлегелем и впоследствии станет одним из общих мест модернистской критики.) Но настоящей находкой русских критиков-формалистов стало ретроспективное выдвижение социального и психологического реализма, и в частности творчества Толстого, чья проза благодаря теории Виктора Шкловского была возведена в ранг предтеч формализма. Использование яркой материальной детали, с помощью которой роман XIX века напоминал читателю об объективности мира, получило название «остранение». Эффект этого технического приема, пояснял Шкловский, состоит в том, чтобы вызвать неожиданность восприятия: яркая деталь обновляет представление читателя о самых знакомых действиях и предметах, заставляя его увидеть их как бы впервые. Этот прием неожиданности, так похожий на формальные игры модернизма, был описан Шкловским и как вершина реалистической точности, и как вечный закон стилистической рельефности [8]. Другими словами, писательская игра постоянно изобретает мир заново.
Таким образом, отказ от прошлого не исключает присвоения хороших предков или эпизодической мобилизации ушедших идеалов под знаменем нового художественного и идеологического выбора. Генеалогия романа, излюбленного модернизмом, выстраивалась в обратном направлении, исходя из специфических для этого течения критериев: бунт против господствующих норм («Дон Кихот»), формальное своеобразие («Пантагрюэль», «Франсион», «Тристрам Шенди», «Жак-фаталист», «Моби Дик»), наличие рефлексии над субъективностью («Принцесса Клевская», «Вильгельм Мейстер»). В соответствии с этими критериями предпочтение, естественно, отдавалось ироничным, зловещим, порой незавершенным текстам, то есть тем, которые наиболее близко перекликались с модернистскими практиками. Роман задним числом был объявлен антагонистическим, бунтарским жанром, который всегда создавал исподтишка иллюзию правдоподобия, чтобы указывать на более глубокую правду и сомнение. В результате прошлое романа стало ареной вечной борьбы волнительных, гипнотических, не поддающихся классификации произведений с тиранией повествовательной банальности.
Ретроспективный выбор предков часто принимает форму списков рекомендуемых авторов и названий – списков, подчиняющихся скорее восхитительному ощущению родства, чем ясности концепта. Так что путаница между исключительными произведениями и произведениями-исключениями не обошла стороной и пантеон модернистов. Тот же Бретон, который порицал реализм, выражал безграничное восхищение готическим романом Мэтью Льюиса «Монах» (1796), названным «образцом точности и бесхитростного величия…» [9]. Почему выбрано такое примитивное и плохо написанное произведение, как «Монах»? Потому что, по мнению Бретона, в этом тексте воплотилось чудесное, которое «одно только способно оплодотворять произведения, принадлежащие к такому низкому жанру, как роман, и в более широком смысле – любые произведения, излагающие ту или иную историю». Другими словами, избыток неправдоподобия, переименованный в «чудесное», был бы единственным способом спасти романы от банальности, присущей жанрам, повествующим о действиях, и именно потому, что, оцениваемый по критериям реалистического романа конца XIX века, «Монах» резко контрастирует с идеалом, выдвигаемым этими критериями, он в результате становится достоин сюрреалистического почитания.
О проекте
О подписке