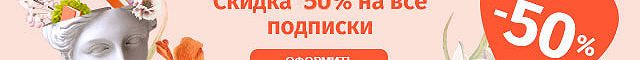
Мои доводы
Успех повествовательного произведения – его красота, как сказали бы в прежние времена, – обусловлен конвергенцией вымышленной вселенной и формальных приемов, с помощью которых она изображается. Учитывая, что повествовательные произведения вообще и романы в частности не просто описывают реальность, а всегда в той или иной степени заново ее изобретают, чтобы лучше ее понять, разница между произведениями не может проистекать исключительно из того, как они представляют вселенную читателю (абстрактное и наивное воображение у архаичных авторов, искусная конкретизация у авторов XIX века, избыток формальных приемов у модернистов). Чтобы понять и оценить смысл романа, недостаточно рассмотреть литературную технику, использованную автором; интерес каждого произведения заключается в том, что он предлагает, в зависимости от эпохи, поджанра, а иногда и гения автора, некую содержательную гипотезу о природе и устройстве человеческого мира. И так же как в пластических искусствах идея воплощается в чувственной материи, здесь гипотезы об устройстве мира воплощаются в событийной материи, которая, таким образом, остается непонятной сама по себе, без связи с одушевляющей ее мыслью.
Эта мысль разворачивается на нескольких уровнях, первый из которых, имеющий своим объектом место человека в мире, взятое в его наибольшей общности, возникает на горизонте господствующего в каждую эпоху антропологического воображения. Именно на этом уровне роман, как до него эпос и трагедия, размышляет о роли божественного в человеческом мире и о взаимоотношениях человека с себе подобными; но если в эпосе герои принадлежат душой и телом своим поселениям, а в трагедии судьба героев заранее определена, то в романе персонаж отделен от окружающего мира, и его приключения открывают нам непредвиденность последнего. Благодаря разрыву между главным героем и окружающей средой роман стал первым жанром, поставившим вопрос о генезисе индивида и становлении общего порядка. Прежде всего, он с непревзойденной остротой ставит аксиологический вопрос о том, является ли нравственный идеал частью мирового порядка: ведь если он является его частью, то как получается, что мир, по крайней мере внешне, так далек от него, а если он чужд миру, то как получается, что его нормативная ценность столь очевидно навязывается индивиду? В романе, жанре, рассматривающем человека через его приверженность идеалу, постановка аксиологического вопроса равносильна вопросу о том, должен ли человек для защиты идеала сопротивляться миру, погружаться в него, чтобы восстановить в нем моральный порядок, или, наконец, попытаться исправить свою собственную хрупкость, то есть может ли человек населять тот мир, в котором он появился на свет. Именно в связи с этими вопросами история романа отдает предпочтение любви и образованию пар: если в эпосе и трагедии связь между человеком и его близкими считается само собой разумеющейся, то роман, говоря о любви, размышляет о становлении этой связи в ее самой интимной межличностной форме.
В рамках этой фундаментальной антропологии, предложенной романом, мы можем отметить как удивительную устойчивость его проблематики, так и историческую эволюцию воображаемых им вселенных. Уже в эллинистическом романе были заложены основные ориентиры для антропологии романа: разрыв между героем и враждебным ему огромным миром, несводимость главного героя к случайности его судьбы, спасительная роль любви. Этот каркас сохранится, но на более конкретном уровне изобретения старые вымышленные вселенные станут порой в ходе истории объектом яростной критики, что приведет к переосмыслению социальной антропологии, передаваемой романом [22]. Памела, героиня Ричардсона, воплощает в себе идеальную добродетель принцесс греческих романов, но в облике персонажа, принадлежащего к самому скромному социальному положению.
Метод репрезентации, принятый различными эпохами и жанрами, зависит как от характера фундаментальных антропологических гипотез, так и от того, какой вес они имеют по отношению к соображениям социального порядка. Именно поэтому в каждую эпоху роман вступает в отношения с горизонтом внелитературной рефлексии, которая, отнюдь не будучи заданной заранее, в действительности сама является итогом дискуссий, результаты которых никогда не принимаются на веру. Говоря проще, можно было бы сказать, что роман – это первый жанр, в котором мироздание предстает как единство, превосходящее множественность человеческих сообществ. Метод идеализации эллинистического романа отражает, как мы увидим, раскрытие этого единства. Опять-таки упрощая, можно отметить, что настойчивое стремление к единству человеческого рода лучше всего выражается через идеализированное представление, тогда как интерес к социальной погруженности человека чаще всего выражается через метод конкретных материальных деталей.
Конвергенции между мыслью романа и формами, которые она заимствует, в предмодерной литературе способствует примат идеи, которая безраздельно господствует над представленными эмпирическими данными. В результате возник ряд узкоспециализированных повествовательных жанров, одни из которых (эллинистический роман, рыцарская повесть, пастораль) выводят на сцену непобедимых или, по крайней мере, достойных восхищения героев, отстаивающих нравственные нормы в мире, где нет порядка, а другие (плутовской роман, элегическая повесть и новелла) раскрывают неустранимое несовершенство человека. В XVI и XVII веках диалог между идеализацией и обличением человека принимает форму мирного противостояния этих поджанров.
Роман XVIII и XIX веков, возникая на основе слияния старых повествовательных образцов, напротив, стремился к синтезу воплощенных в них точек зрения и, таким образом, к сочетанию идеализирующего ви́дения с наблюдением за несовершенством человека. Делая акцент на правдоподобии, роман XVIII века ставит вопрос о том, является ли индивид источником морального закона и хозяином своих поступков. Затем роман XIX века приходит к выводу, что в конечном счете человек определяет себя не столько по отношению к моральной норме, сколько по отношению к породившей его среде. Для доказательства этого тезиса роман заменяет главенство концепта скрупулезным наблюдением за материальным и социальным миром, эмпатическим исследованием индивидуального сознания. Таким образом, жанр приобретает новую широту и эффективность, но при этом теряет свою тематическую и формальную гибкость.
На заре XX века модернистский бунт направлен как против попытки заключить человека в тюрьму окружающей среды, так и против метода наблюдения и эмпатии. Небывалый разрыв отделяет отныне реальность, ставшую таинственной и вызывающую глубокое беспокойство, от человека, освобожденного от нормативных забот и задуманного как объект неудержимой чувственной и языковой активности. Эта эволюция придает роману новую формальную гибкость, не меняя при этом извечного объекта его интереса – отдельного человека, испытывающего трудности в обитании в этом мире.
Часть первая
Трансцендентность нормы
Глава I
Предмодерный идеализм
Пара-вне-мира. Эллинистический роман
Возникновение романа возможно только в мире, открывшем для себя свое единство, свободу человеческого я и бесконечную силу единого божества. Эти открытия и вызванные ими огромные потрясения в устройстве мира, в понимании моральных норм и в индивидуальной психике породили в предмодерном антропологическом воображении три отчетливые фигуры: отшельник, избранный народ и влюбленная пара, судьба которых предопределена.
Персонаж отшельника, как убедительно показал Луи Дюмон, воплощает первую попытку заставить человеческое сообщество принять как внешнюю по отношению к видимой вселенной природу божественного, так и существование такого типа индивида, который, обнаружив идеал, бесконечно превышающий социальные ограничения, решается освободиться от них, чтобы следовать ему [23]. Аскет покидает общество, чтобы подчиниться требованиям божества, и, отказавшись от благ этого мира – богатства и потомства, – вступает в союз с невидимой, но бесконечно превосходящей силой. То, что он приобретает в виде престижа и косвенного влияния, с лихвой компенсирует потерю земных благ: освободившись от ограничений, налагаемых сообществом, аскет обретает статус индивидуума-вне-мира и черпает свою новую автономию непосредственно от Бога, который им владеет и защищает его. Существует множество исторических воплощений этой роли, наиболее известны те, что зародились в Индии. Более того, именно индийский аскетизм породил самый известный в мире рассказ об индивидуальном отречении от мира – легенду о Будде, преобразованную и христианизированную в виде истории о Варлааме и Иоасафе.
Если открытие божественного открывает аскету суетность жизни среди людей, то в случае с избранным народом божество, обещая свою поддержку Аврааму, прародителю нации, наоборот, придает совместной жизни сплоченность и устойчивость, не имеющие себе равных. Анализируя историю Авраама, молодой Гегель подчеркивает одиночество и отрешенность, иначе говоря, внеземную природу человека из Ура [24]. Чужой на земле, привязанный к своей уникальности и противопоставленный миру, Авраам вступает в союз с Богом, столь же далеким от природы. Жертвоприношение единственного сына Исаака действительно принимает форму аскетического отречения, благодаря которому человек-вне-мира, отказываясь от права на потомство и отдавая себя в руки своего Бога, принимает бесконечно более высокую норму, чем та, которая управляет миром. Но если в конце гибели мира наградой аскету становится индивидуальная независимость от сообщества, то жертва Авраама приводит к статусу индивидуума-вне-мира не одного человека, а целый народ, который становится избранным. Это избрание превозносит в коллективном масштабе привилегию внемирности и наделяет потомков Авраама, взятых в целом, исключительностью и символической неуязвимостью, обычно присущей только аскетам и отшельникам. История, рассказанная в Библии, – это история народа, единство и сплоченность которого навсегда гарантированы союзом с Яхве, так как вся община принимает отношения, по сути сугубо индивидуальные, которые люди устанавливают с трансцендентным божеством.
В эллинистическом романе появляется третья фигура союза людей с божеством – пара, избранная богами и предопределенная для счастья. Подобно отшельнику и прародителю избранного народа, предопределенная пара остается чужой для окружающего мира. Лишь разделенная любовь направляет жизнь молодых героев, помогая им пройти через длинный ряд испытаний, отражающих несправедливость окружающего мира.
В конце концов хитросплетения фортуны терпят крах, и священная свадьба, завершающая повествование, подчеркивает необычность судьбы главных героев. Оторванные от мира, герои эллинистического романа не достигают аскетического совершенства или изоляции настоящих отшельников, поскольку по окончании испытаний они не отказываются от права вернуться к обычной жизни и иметь потомство. Но и эта интеграция не отменяет индивидуальной связи с божеством-покровителем, как и в случае с избранным народом. Являясь промежуточным случаем между, с одной стороны, беатификацией индивидуума-вне-мира и, с другой стороны, божественным избранием, выделяющим целый народ, фигура пары-вне-мира представляет собой попытку примирить через добродетельную любовь требование аскетизма, сформулированное трансцендентным божеством, и призыв к совместной жизни.
Хотя эллинистические романы, написанные, вероятно, между II и IV веком, были продуктом той эпохи, когда монотеистическая мысль, отнюдь не являясь новшеством, уже давно победила философию и добилась значительного прогресса в религиозной жизни Римской империи, литературное изображение Вселенной, управляемой единым внешним божеством, конечно, оставалось необычным в глазах публики, привыкшей находить в повествовательных произведениях отголоски древнего политеизма. (Не этим ли объясняется относительно скромное распространение эллинистических романов в рамках породившей их культуры?) За три четверти тысячелетия до этого эпос получил и сохранил отпечаток верований во множественность богов. Бессмертные были вездесущи, они сражались вместе с героями, давали им советы и оскорбляли их, переодевались в девственниц и стариков, принимали облик отсутствующих детей.
В «Илиаде» Афина Паллада и Афродита меряются силами через греческих и троянских воинов. В написанной много позже, всего за несколько столетий до первых романов, «Энеиде», произведении нарочито архаизирующем, конфликт между Энеем и карфагенянами накладывается на конфликт, в котором Венера сражается с Юноной. Смешиваясь с природой и являясь друзьями человека, эпические божества не имели необходимости действовать от своего имени: сила Энея и благосклонность Венеры сливались друг с другом, так же как великолепие Карфагена и интересы Юноны. Позднее, с ослаблением политеизма, это счастливое неразличение позволило экзегетам приписать эпическим богам чисто аллегорическую функцию.
В трагедии же, напротив, боги не находятся в том же пространстве, что и герои: они пребывают за сценой. Время от времени они произносят пролог («Ипполит»), высказывают свои требования через оракулов («Царь Эдип», «Альцеста») или, что бывает реже, молниеносно вмешиваются в жизнь смертных, чтобы ускорить развязку действия («Ифигения в Авлиде»). Боги постоянно присутствуют в эпической поэме, но трагедию они посещают только в кризисные моменты. Могущественные и своенравные, божества вмешиваются в человеческие дела по собственному почину, сея вокруг себя ужас и сострадание: призываемые с великой осторожностью, они уподобляются судьбе, то есть господину, решения которого не подлежат обжалованию. У Вергилия Юнона как может защищает Карфаген; в трагедии Еврипида Артемида не прилагает никаких усилий, чтобы уберечь Ипполита от ярости Афродиты. Более того, по мере того как сила божеств возрастает, их индивидуальность угасает: в «Ифигении в Авлиде» бог, спасающий дочь Агамемнона, остается неизвестным.
Возрастающая сила, редкое и очевидное вмешательство, стирание индивидуальных черт – эта динамика божественного, начало которой положила трагедия, находит выражение в эллинистическом романе. Антропоморфные, предельно индивидуализированные боги, которые, будучи тесно связанными с человеческими конфликтами, населяли эпос и выживали на периферии трагедии, отныне устраняются от романного действия: их обилие растворяется в немыслимой силе единого невидимого божества. Правда, память о старых божественных именах на какое-то время сохраняется, но эти имена, очевидно, суть лишь приманка, маскирующая, но не стирающая лик нового бога, будь он Эросом, как в «Повести о любви Херея и Каллирои» и в «Левкиппе и Клитофонте», или носит различные имена солнечного божества, как в «Эфиопике» Гелиодора [25].
О проекте
О подписке