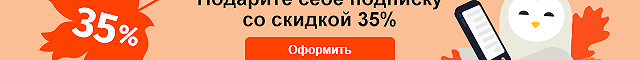
Звуки, жаркие летние звуки, летали в вечерней темноте между ее и Чарльзовым домом, как между анлаутом и ауслаутом слов. Итальянка из дома напротив (чуть поправее и повыше окна Чарльза), высунувшись зачем-то в раскрытое окно, и лишь ненадолго вдергиваясь внутрь кухни (со звоном разбиваемых бокалов), истерически кричала на любовника – а он – на нее; кричали, причем, не оба разом, а каждый давал другому выораться – а потом уже начинал орать сам – во время чего второй уважительно замолкал и ждал – как в опере. Какая-то злобная крыса из подвала (левее Чарльза) визжала на кротчайшую старушку (двумя этажами выше, над собой), что пожалуется в местный совет, если та не прекратит кормить на подоконнике голубей – ибо они гадят ей на голову. А не надо потому что быть крысой и залезать жить в подвал. Дынцдынцала танцевальная музыка с парти на террасе у кого-то из соседей, слева. Все будто вывернули, от жары, жизни начинкой наружу. Даже Чарльз, видимо, поддавшись гипнозу жары, сидя, как обычно, перед раскрытым окном и читая что-то у себя на экране компьютера, вдруг смачно захохотал, – а когда Агнес на него обернулась (легкий кивок головой вправо), Чарльз, легкое ее движение это увидев, – как бы в свое оправдание – комично вздернув мохнатые черные свои брови, экспрессивно указал ей обеими руками на экран собственного лэптопа: мол, смотрите сами – невозможно же удержаться от гогота! «Конечно же какая-нибудь лингвистическая шутка», – моментально догадалась Агнес – и углубилась обратно в свой текст.
И вот тоннель был прорыт. Незначительность остававшейся правки, шум в голове от счастья свернутой горы…
У самого подъезда Агнес вечно пасся чей-то дряхленький, худенький крайне старомодный припаркованный мотороллер – отбрасывая на сиреневатый асфальт тень темно-ослиного оттенка; и, по-ослиному же, избоченясь и на бок наклонив голову, прижимал от жары ослиные уши. Агнес выходила (не позже полудня) в жаркий палисадник (громадный ключ в кармане, расколдовывающий черную, густо крашенную чугунную калитку в изгороди из густо крашенных пик), любовалась мелкими фиолетовыми цветами буйного чайного дерева – и осторожно нюхала кисло-приторный белый шиповник.
– Я уже это сегодня тоже дела! – доверительным шепотком признавалась ей дряхлейшая старушка с рюшами жабо меж лацканами твида, в шляпке – и с дряхлейшим западно-высокогорным белым терьером на поводке, тяжко шаркающим, как и хозяйка, по мягкому изумруду. – Честно Вам сказать? Великолепно! Великолепно! – и белые меховые уши, белый меховой коротенький хвостик, и край ручки белоснежной тонкой изящной металлической тросточки старушки и белый шиповник в шляпке дергались при ходьбе в рифму.
Но вдруг случилась катастрофа. Агнес не враз поняла, что произошло, когда в понедельник оказалась разбужена чудовищным грохотом – как будто дом сейчас рухнет, как будто каменоломы вдруг сошли с ума и уничтожают ее дом, как будто им вдруг какой-то мерзкий шутник вдруг сменил задание, исказил дорожную карту. Едва высунув нос из пещеры – Агнес не увидела ни золотого светофора, ни сикомора: в окно заглядывали три наглых грязных рожи, мужики, и один из них с ист-эндовским фусюканьем горланил:
– Гивь ась сям во’а, гиизя!
Вскочив, замотавшись в одело, и в секунду, с ужасным подозрением, взлетев вверх по ступенькам в кухню – Агнес быстро осознала вселенский размах катастрофы: все окна (не только ее, но и Чарльзова дома) заросли с умопомрачительной быстротой сколачиваемыми лесами. Звонки менеджеру, мольбы, жалобы – ничего не помогало. Мы, мол, Вам звонили, хотели предупредить, косметический плановый ремонт задних фасадов, но у Вас был отключен телефон. Грохот кувалд не утихал ни на секунду.
Работать было невозможно. Агнес уехала на весь день к Каррингдонам. У Чарльза, когда она вернулась, окно выражало всё оскорбление происходящим как могло – были наглухо задернуты жалюзи, – и внутренне она этот возмущенный жест поприветствовала. Но зарисовка, замазка этой привычной буквицы Чарльзова окна сделала ситуацию во дворе еще неуютнее, еще невыносимее.
История заполонила двор – во всей своей неприглядности: по вавилонским многоэтажьям лесов громыхали, сновали вверх и вниз мужики, заглядывали в окна, разговаривали друг с другом криком – даже когда находились друг от друга в расстоянии рукопожатия. Агнес было видно, что торцы каждой доски, из горизонтально кинутых на схваченные болтовыми локтями металлические сваи, закрывавшие большую часть и без того задернутого окна Чарльза (конструкции снаружи своего-то окна ей было не разглядеть), были выкрашены в разные, почему-то, цвета: какой-то – в нежно-сиреневый, а какой-то в нестерпимо алый индийского толка – зловонный какой-то цвет, – и Агнес подумала, что рабочие экстравагантно заранее помечают подходящие по калибру доски, и потом собирают их по цвету, как дети кубики. Но потом решила, что все-таки их, несмотря на неприязнь, слегка романтизирует, – и доски наверняка просто испачкались о разные здания, которые шумные изверги красили перед этим.
В задернутых жалюзи в Чарльзовом окне, ночью, как в экране, метался его черный силуэт: Агнес видела, что он все время привставал из-за компьютера, оборачивался куда-то. И, как ей показалось сквозь все эти ширмы, – ужасно нервничал. И, за деревянными его желтовато-коричневатыми рёберными жалюзи, огромный желтый абажур лампы над ним выглядел как полная луна сквозь тростник. А на следующий день на ее собственных, подоконных лесах, на горизонтальных досках, скомканная кем-то из рабочих кульковая обертка от шаурмы лежала как крошечная мертвая птица, судорожно поджавшая ноги.
А когда ровно через неделю нашествие схлынуло и исчезло так же внезапно, как и заявилось (Агнес умудрилась даже проспать, привыкнув к шуму, тот момент, когда рабочие разбивали кувалдами крышки креп и разбирали вавилон), – Чарльз вдруг куда-то пропал. То есть квадрат окна его, теперь уже раздернутый, – не зажегся вечером, не наполнился привычным содержанием – Чарльзовым силуэтом и компьютером. Через десять дней его отсутствия Агнес, доделавшая уже почти всю правку, созвонившаяся уже с издателем и получившая положительный ответ, – запаниковала: досада, которую она испытывала, глядя по вечерам на пустое, черное окно Чарльза, сравнима была с тем, как если бы кто-нибудь вдруг стащил с привычного места любимую ее гелиевую ручку! Как они посмели?!
Испытывая непонятную, необъяснимую, все больше и больше с каждым днем нараставшую тревогу, Агнес, прекрасно осознавая и вслух говоря себе даже: что трюк этот древен как мир – тосковать по тому, чего тебя лишают, – все-таки не вестись на него не могла. А как мило Чарльз, прошлой зимой, когда был жуткий мороз минус один по Цельсию, вязаную, кругленькую, почти девичью пестренькую надевал шапочку – распахивая настежь окно и, так же, сидя за компьютером перед окном, работая (морозный свежий воздух, чтобы не заснуть, чтобы взбодриться? или ловил, пригоршней, экранируемый стенами сигнал мобильного интернета?). «Может быть… А может быть…» – сама себе не договаривая, что «может быть» (может быть, она зря прежде не обращала на Чарльза достаточного внимания, может быть, это был знак, может быть, это всё неслучайно, – может быть, она должна была бы с ним как минимум подружиться), Агнес сердито бросала работу и шла вышагивать квадратурной прогулкой вокруг квартала – своего и Чарльзового дома. И уж ни в какие приличия не вписывалась та живейшая радость, которую Агнес, когда еще через пару дней Чарльз объявился, почувствовала: когда Агнес проснулась и сердито, по ковровой лестнице, поднялась на кухню, Чарльз уже как ни в чем не бывало восседал – как обычно! – за компьютером! Чарльзово окно (нижняя створка его) была поднята – Чарльз был слегка развернут направо, а в глубине (комнаты? кухни?) еще кто-то был: да-да, какой-то друг его (разобрала Агнес, приглядевшись, – почти не таясь – так рада она была его возвращению – что стояла во весь рост прямо перед окном и разглядывала оконные новости) сидел на диванчике каком-то, слева, который целиком Агнес виден не был; Агнес слышала даже их голоса – но слов разобрать не могла. Чарльз, милый, бородатый, лохматый, чернокудрый Чарльз, где же ты пропадал? Давай поговорим о чем-нибудь прекрасном, Чарльз! Например, о вечных носителях: забавно – правда? – что прежде «вечными» носителями называли надписи, высеченные на камне, а теперь «вечными» мошеннически называют всякую вновьизобретенную цифровую кремниевую дребедень, которая расплавится в случае ядерного взрыва моментально. Или, Чарльз, ну не мило ли, что древние глиняные таблички, описав полный круг (замыкающей себя, исчерпывающей себя, похоже, цивилизации), превратились в цифровые tablets!
Вдруг Чарльз, как будто услышав ее радость, обернулся, от друга, лицом к окну, – и ровно в тот момент, когда Агнес распахивала вверх и свое, громадное, гораздо больше чем у Чарльза, сашевое окно, – ровно в тот момент, когда кистью она придерживала вверх створку, и даже отреагировать адекватно не могла, – Чарльз вдруг замахал ей приветственно рукой. Агнес кивнула – не будучи, впрочем, уверена, увидел ли он этот жест. И быстро отошла от окна. Выскочила на улицу. И долго не могла прийти в себя. Как мне теперь там работать?! Одно дело – когда Чарльз безобидная часть антуража, – и совсем другое, если… что за бред, просто разволновалась почему-то из-за его отсутствия – мало ли с ним могло что случиться… что за глупые суеверия: «знак», «не случайно он живет напротив меня» – да мало ли десятков соседей еще живет напротив… подумаешь – работает по ночам, как я!… эка невидаль!… «знак!»… тоже мне! «знак»! какой-то кучерявый волосатый сосед… обычный эффект разгерметизации после завершения большой работы… забыть немедленно… Фу, как я разволновалась…
Забыть, однако, никак не получалось. Агнес подолгу (чего отродясь не бывало) торчала перед высоким зеркалом в гардеробной комнате (завешанной какой-то вышедшей давно, лет пять назад, из моды одеждой): исхудавшая, с резко обтянутыми чересчур светлой кожей скулами – а большие черные глаза так сильно портит неприятный узор полопавшихся сосудиков. Надо больше гулять, Агнес, надо просто больше отдыхать. И этот удивительный подбородок виньеткой (под маленькими узкими губами) – крайне маленький, резко подкрученный – но все-таки как-то слегка чересчур горделиво выдвинут вперед. Чересчур волевой, пожалуй… – пожалуй что отпугнет любого мягкохарактерного слабака. Тьфу, о чем я, о чем я?! Зачем мне мягкохарактерный?! Зачем мне вообще кто-то… Тьфу, ну вот опять не вычитала ни страницы сегодня… Агнес бережно, как будто может спугнуть кого-то, распускала, из пучка, до пояса достававшие черные вьющиеся волосы – и выходила на улицу.
В маленьком веселом магазинчике у метро Агнес, не вполне отдавая себе отчет, зачем ей это все сдалось, злясь на себя, купила, в одну из прогулок, яркую летнюю блузу – всю в мелких фиолетовых цветах чайного дерева – на молнии и с капюшоном. Через год после разрыва с Эндрю, как вот она вспоминала теперь, идя по цветастой брусчатке, была у нее (скорее из какого-то чувства мести Эндрю) глупая и недолгая история с чернявым, барашко-головым, оливково-кожим красавцем, как из древних оживших хроник, рослым ровесником ее, аутентичным носителем небезынтересного ей языка, произносившим букву хэт так, что можно было упасть в обморок от восторга, – проводником, сопровождавшим ее во время научных шляний ее по Средиземноморью. Шли мне эсэмэс. Я очень скоро вернусь. Волновалась за него (дистанционно – уже из Лондона), когда узнала (из эсэмэса), что он ушел служить на милуим. Воображала: вот его убьют – а она будет плакать и, наконец, оторвавшись от научных занятий, оценит его по-настоящему. А когда он раз нагрянул без спросу к ней, в Лондон, – без жаркого родного архаичного ископаемого антуража как-то стало ясно, что говорить-то с ним, хоть и есть на чём, да не о чем. И Агнес вдруг как-то стыдно стало с ним быть – как стыдно было бы жить, например, с ослом. Каким бы красивым он ни был.
Был еще… – вернее, какой там «был»! – просто ухаживал за ней, пару лет назад, – рыженький нежно-веснущатый юный широкоплечий шотландец («горец», как в шутку Агнес его называла), с чересчур, правда, толстоватым, на взгляд Агнес, задом, – менеджер, проводивший ремонтные работы и присылавший ей (с феноменальной чуткостью и предусмотрительностью) рабочих, наладив, за несколько дней, все неработавшие краны, освежив безароматной краской магнолийные и лилейные стены в квартире. И Агнес было со смехом подумала: «зачем людям нужны мужья? нужен просто хороший набор слесарей, декораторов и карпентеров». Ухаживания этого самого горца, однако, на беду его, проявлялись архитектурно-интерьерным образом: зайдя к ней под уважительным предлогом (что-то нужно было проверить в кухне – в момент, как раз, когда Агнес работала), он заискивающее спросил, «можно ли ему прибраться на полочке в ее кухне», – и Агнес, с истеричным смешком, с ним распрощалась – и больше не захотела его видеть никогда в жизни.
Но Чарльз, Чарльз… Я не верю, что Чарльз может хоть на йоту в интеллектуальной поступи оступиться… Человек, высидевший за компьютером за последний год не многим меньше часов, чем я… Человек, работавший без устали, без сна! Не может всё это быть случайным… Я буду последней идиоткой, если не расслышу такого явного намека – этой странной симметрии наших квартир, жизней… Агнес проходила стеклянную стену бара в сквере у метро и видела две скандинавские пары – друг напротив друга – за одним столиком, нос в нос: белобрысых, крепко сбитых двух до кошмара одинаковых парней, коротко остриженных, со спиралевидным вьюнком волос на затылке, – и двух до ужаса одинаковых бесцветных, стройных, худых, спортивного склада девушек с соломой волос, сжатой в копну. И снова Агнес становилось вдруг отчего-то тошно: «Зоологическое, стыдное… Это всё равно как выбирать себе пару в зоопарке!»
Агнес, всеми этими странными размышлениями и нестроением чувств, выбита оказалась из настоящей своей жизни до такой крайней степени, что когда прозвонилась, встряв в случайную брешь на минуту включенную телефона, университетская подружка («Ну сколько можно, как тебе не стыдно, сколько мы все тебя не видели?!»), – Агнес, как зачарованная (всё равно уже всё делаю не так, как надо), безвольно согласилась встретиться. В японском ресторанчике в Сити ждали ее не одна университетская подружка, а аж две. Обе бойко, с энтузиазмом рассказывали, что за годы, которые Агнес сидела в научном затворничестве, каждая из них успела сделать по аборту – а недавно, вот в этом году – представляешь! – почти одновременно! – расстались со своими последними в очереди бойфрэндами – и за это надо выпить! – кричала вторая. Агнес вернулась со встречи как отравленная, чуть не слегла, назавтра затемпературила, да и вправду почувствовала симптомы отравления (прямо как Флобер, после того, как написал знаменитую мышьяковую сцену с мадам Бовари), – волевым, однако, усилием приказала себе об ужасе, об этом танце призраков, забыть, прочистила желудок и душу – и даже попыталась себя усадить за работу (может быть, задернуть мне теперь жалюзи? среди бела дня?) – и не смогла.
Агнес прекрасно осознавала, что происходит: время, ее личное, вечное, вневременное время, в котором она жила, вот уже так долго, отречась ради работы от всего, вечное время, которое было герметично ради нее закупорено, вольготно и привольно позволяя ей в нем путешествовать и творить, – вдруг, по ее вине, дало течь, – и в жизнь ее врывалось, клочьями, время внешнее, кошмарное, внешнеисторическое – ежедневным прибоем приносило вдруг, и швыряло в лицо, ненужных, страшных людей. В том числе – и людей из прошлого. В раздризганных чувствах, не зная, как залатать брешь, восстановить герметизацию… Вернее, зная, прекрасно зная, что дело в Чарльзе, в уловке израненных чувств, бывших не готовых к защите, в эйфории законченной работы, в этих дурацких строительных лесах, в этой мертвой птице, в идиотском его исчезновении, – примитивнейший событийный соблазн, и надо просто собрать всю волю и выкинуть это из жизни… Невозможно же уже не только работать, но и дышать!
Чарльз, Чарльз, мне нужно тебя увидеть, мне нужно поговорить с тобой – просто вместе кофе вот тут вот – у метро, в кафе. Всё прояснится по первым звукам. Бред, марево соблазна – или судьба. Но как, как подать тебе знак? Плакат, тушью – в окне – встречаемся через четверть часа?
Чувствуя, что на весах лежит слишком многое (цинично говоря – недовычитанная правка монографии), Агнес решилась намеренно (и поскорее!) искать с Чарльзом встречи. Двор… Нет, не двор – сад, двор, переулок – всё вместе (нарезка заборами разграниченных буйно заросших садов – узких и коротких, доступ в которые был только у жильцов наземного этажа ее дома; а в центре, параллельно домам – узкая, даже не заасфальтированная дорожка, переулочек, который соседи использовали как гараж под открытым небом; а дальше – такие же маленькие сады, с пальмами и горизонтальными кипарисами, принадлежащие Чарльзовым уже нижним соседям) – словом, пространство, разделявшее их дома, было домами этими замкнуто с фронтов наглухо – а с боков запечатано еще и другими домами, покороче, а также высокими, выше человеческого роста, каменными заборами (с запирающимися лазейками для машин по центру), – и в этом была главная проблема. Неназойливо пройтись под окном у Чарльза никакой возможности не было – поскольку физически отсутствовал для этого променад. Можно было, в конце концов, как бы невзначай прогуляться у его подъезда с фронтальной здания стороны (противоположной той, которую она видела из окна) – но здание его было настолько затейливо по форме надстраивающихся, друг за другом, как подъезды, частиц и сегментов, настолько длинно, – что рассчитать, где именно Чарльзов подъезд, – можно было бы, вероятно, только с какой-нибудь гигантской линейкой в руках. И вообще, что за чушь… Что я задумала?!… Как угадать, когда он выходит из дому? И главное – зачем? Зачем?!
Агнес испуганно и, одновременно, с взведенными нервами, обходила свой же собственный квартал – вдруг превратившийся в какой-то непреступный лабиринт: слева, после торца ее здания (в котором какие-то идиоты век назад заложили несколько окон кирпичной кладкой), цвел, как и в палисаднике, белый шиповник, но крайне мелкий, – но только здесь он не подстригался, а попирал все законы британского садового искусства – вымахал выше каменного забора, был метра три высотой. Дальше – вместо забора – перпендикулярный дом, в торце которого кто-то недавно, не выдержав глупой слепоты заложенного кирпичами окна, проделал стрельчатое окно – высокое, узкое, как бойница – и со вспрыгивающим сводом кверху. Затем – блаженная тень гигантской, высоченной, на панель и мостовую кроновой сенью раскидывающейся, хоть и не слишком крупнолистой, а зато густейшей липы – тоже противозаконной: как-то раз приехали рабочие, саранча-кокни, с приказом мэра, с альпинистским снаряжением, и хотели было залезть на липу с бензопилами «спилить все выступающие за забор ветви для безопасности прохожих и движения» – но местные эти самые прохожие, а также жители обоих домов живо пообещали самим этим рабочим поотпиливать всё что торчит – если они дотронуться хоть до веточки. И липу спасли. А после – шли сплошняком кубы жутко гладко подстриженных, с темно-зеленым лоском, очень высоких, и густых, почти взглядо-непроницаемых кустов бирючины – бррр, обдало веселыми ледяными брызгами поливалки! Агнес чуть приблизила глаза к кустарнику – и рассмотрела, сквозь зелень, женщину в зеленом, по ту сторону, – рядом с оранжевыми квадратными, неудобными на взгляд, летними стульями-шезлонгами, – со шлангом, увлажняющую свой садик, а заодно, через брешь в кустарнике, – еще и прохожих.
Изнанка Чарльзова дома отсюда, вот сейчас, когда солнце затянула пепельная куча, – выглядела и впрямь серой – и только в крынках окон – молоко (недавно подбавленное рабочими), да кариатидовы изгибающиеся тонкие белоснежные водосточные трубы. В Чарльзово окно заглянуть отсюда не было никаких шансов – видно окно было – но под тем далеким углом, который уж точно не позволял бы ему Агнес, здесь гуляющую, увидеть.
Бесплатно
Читать книгу: «Искушение Флориана. Маленькие романы»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке
