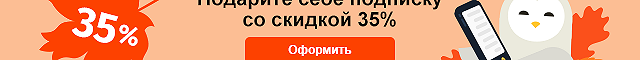
Когда сквозь крепостную стену (выключенного почти всегда мобильного Агнес) прорывалась иная университетская подруга и, тараторя, интересовалась, почему же Агнес отказалась ехать на такой престижный симпозиум в Милан, где, поверь, была безумно возбуждающая атмосфера, и где уж твое выступление бы оценили, и где Эндрю, кстати, блистал, блистал! – Агнес лениво спрашивала себя: «а почему, действительно?» В свои тридцать три года Агнес, великолепием образования могшая посоперничать уже даже с Эндрю, давно превзошедшая его, блестяще получившая очень раннюю докторскую степень, опубликовавшая два десятка ярчайших, нашедших отклик, научных статей, – ничуть не трудилась сделать ни серьезной «карьеры» в обывательском этого слова понимании, ни подгрести доходной и престижной должности, не имела ни собственного дохода, не обзавелась семьей, не имела даже любовника, ненавидела даже вот эти вот ярмарки тщеславия – международные симпозиумы и семинары. Пять – нет, чуть больше уже… – лет назад, когда Эндрю, женатый на тихой женщине (к науке отношения не имеющей) и в течение чудовищно длинных и эмоционально изнуряющих восьми лет с удобством регулярно приходивший к Агнес раз в неделю, по субботам, на весь день (врал жене, что идет в отдел редких книг в Британскую Библиотеку), а также с шиком ездивший вместе с Агнес на все международные семинары, так вот когда этот самый возлюбленный души-не-чаемый Эндрю, гений лингвистики, узнав, что Агнес беременна, вдруг превратился в трусливого жалкого блеющего кролика, начал бемекать, что Агнес обязана делать аборт, что жена развода не даст, и вообще что жена его разорит и в суды затаскает, если узнает… и что его карьера, его карьера! международный его имидж! будут безнадежно испорчены!.. – Агнес вдруг со счастливейшим облегчением почувствовала, что этот трусливый кролик ей физически в одночасье стал отвратителен, все чары, державшие ее до этого восемь лет рядом с ним на привязи, испарились. Нервный срыв, болезнь, выкидыш, чудовищно трудный уход от Эндрю, цеплявшегося за нее, устраивавшего бабьи отвратительные скандалы, вдруг – задним умом – уже после того, как увидел, что Агнес порвала с ним всерьез – начавшего настырничать с предложением ненужной ей уже больше нечестной и неблагородной, жалкой его руки и подлого его дырявого сердца, – и в конце концов бегство от него на другую квартиру, чтоб не знал даже адреса, – всё это теперь вспоминать Агнес себе давно уже запретила – как чудовищные мифы и легенды злобного, жестокого вымершего, на земле больше не существующего, аморального народа.
Гениальность как выбор, – да, всегда. Но не у всех находятся на выбор этот силы. А если горе – это метод судьбы заставить тебя принять гениальность – что ж, мы рады таким гостям. Я чеканю монету, которая будет иметь хожденье на небесах. Вот уже третий год чеканки. Мучительной – но такой божественной. Боже, мне иногда кажется, что я не доживу до конца монографии. Будет чудом, если доживу.
Птичье остренькое лицо с узким тонким загнутым клювом (фарфоровые ноздри просвечивают) и какой-то птичий же набор предметов на овалом вытянутой голове – симбиоз яйца и гнезда: яйцо – лысый белый кумпол, и гнездо – кудрявая каштановая живейшая поросль, вкруг птичьего яйца остатками завивающаяся. Именно таким, комичным перестарком с вечным наигранным восторженным юношеским огнем во взоре, бегающим с указкой перед доской, испещренной мелованными формулами, взбегающим по амфитеатру студенческих скамей, вампирски выклянчивающим из юных слушателей реакцию, – таким виделся Эндрю ей теперь, когда (иногда), в интернете, шастая за языковедческими континентами, она натыкалась на видео-записи его выступлений, международных лекций. А эта его передняя левая прядь волос из видео, из интервью на парижской конференции! – прядь косая, сальная, рваная, даже не каштановая, а почти черная (крашеная?! Эндрю?! Ты начал краситься?!), которую он отращивал специально подлиннее, ниже носа, и по-юношески лихо перекидывал ее направо и назад, прикрывая лысое яйцо и гнездо как сеточкой! Эндрю слыл среди лингвистов не просто авторитетом – нет! Ни «авторитетом», ни «уважаемым» среди коллег по всему миру он никогда не был: он слыл просто «гением». Безумным, устраивающим скандалы и местечковые перевороты в семитологии, гением. Но по мере научного возмужания Агнес – вернее, по мере ее независимого творческого раскрепощения, по мере избавления ее от любовного дурмана и от восторга сверкающими профессиональными спецэффектами Эндрю (шутка ли сказать – ей было двадцать – ему уже сорок четыре; богатства – не его! – награбленные им и им носимые в профессиональном багаже – к тому времени были несметными, и вся семитология перевернулась в одночасье, как звенящий золотой поднос на наглой голове богатого заносчивого продавца пахлавы у Яффских ворот, грохнувшийся о брусчатку, так, что разлетевшиеся по мостовой липкие сладости вдруг достались нищим голодным беспризорным детям и симпатичным бездомным собакам – вот такое у нее, дрожащее, звенящее чувство было, когда она в юности впервые услышала его лекцию), Агнес вдруг как-то ясно увидела, что Эндрю, любитель выстраивания акцентуированных парадигм и уравнений с иксами, любитель достраивать «недостающие в найденном археологами корпусе языка звенья», предсказывать заполнение пустующих ячеек, а по мере опровержения его прогнозов – изящно выворачивать свои же ошибки как доказательства справедливости подпункта «А» второго раздела его же двадцать пятой теории, опровергающей его же двадцать восьмую (но в обновленной версии свежего года), изложенной в Веронском докладе в позапрошлом году, – короче говоря, Агнес вдруг почувствовала, что Эндрю не просто педант (все слова всегда в столбиках, по пунктикам, по формулам) – а еще и шарлатан, любящий наводить в мозгу своем такой же порядок, как Ванесса в доме Ричарда – а затем распродавать гряды парадоксально скомпонованных феноменов диалектных вариативностей (зачастую – просто случайных! обмолвок, описок, региональных безграмотностей пользователей языка!) как новейшую личную теорию, как переворот в языкознании. Шарлатан, эксцентрик – поражающий неофитов и стародумов парадоксальным – а потом эту же парадоксальность парадоксально развенчивающий. Эндрю скользил по поверхности – и никогда не заглядывал дальше грамматической и словоформной и историко-лингвистической шелухи. Фигляр – хоть и фиглярствующий на высотах интеллекта. Впрочем – один единственный урок, запомнившийся от Эндрю, ей оказался ко двору: держаться особняком, никогда не подстраиваться под посредственность, крепко сбивающуюся в стаи и провозглашающую себя законодателями мод – в науке ли, в искусстве ли, в любом творчестве – да и в жизни тоже. Да и вообще ни на кого никогда не равняться. Едва ли в жизни своей он этому правилу честно следовал. Вот и перестала она равняться даже и на Эндрю, пять лет назад.
Апрельские утра, тем временем, делались все более теплыми: курортными, томными, дымными, банными. Солнце, когда появлялось за цапельно-пепельной взбитой мутью, – виделось как на перевернутом донышке телескопа: настолько крошечное! – можно было его (когда утром заваливалась спать до полудня после ночи работы) прикрыть кончиком мизинца. Крошечный, неправильной, посекундно меняющейся формы кругловатый кусочек расплавленной золотой платины.
За компьютером, уже после каких-нибудь пяти часов неотрывной работы, спина болела невероятно! Работа, трехлетняя упорная работа-борьба, которую Агнес вытащила, дотащила на своем хребту уже почти до финиша, до вершины, – давала теперь этому хребту знать о всей тяжести пройденного, в крутую гору, пути. И дело было даже не в неудобной позе за компьютером – а в том, что позу неудобную эту (сгорбившись, перекрутившись – и нога на ногу, избоченясь – чтоб можно было одновременно дотянуться и до горы нужных материалов слева от лэптопа, и делать собственные заметки гелиевой ручкой справа от лэптопа – и, совершенно одновременно – впечатывать собственную быструю дактилоскопию в компьютер, по центру), неудобную позу эту Агнес не замечала – в течение нескольких часов – до той самой секунды, когда боль становилась уже просто неимоверной, – и, очнувшись, Агнес ощущала, что все тело занемело, – и, глядя на печатные материалы с текстом от профессора Цолина (из академии маленького города с фонетически интересным и сложным, зубным названием Ostrozhskaya), Агнес вдруг явственно видела, как листок бумаги начинает подмигивать, выключаться, перезагружаться – и загружать антивирусы.
В воздухе рассыпа́ли мелочь, серебряные монеты – мелочь, мелочь, такую мелочь, что не разобрать было год чеканки! А иногда, сразу после полудня, начинались вместо этого наоборот биржевые махинации, спекуляции – цену дню нагло завышали как могли – и из серебра день делался вдруг золотым. И Агнес, расправив хрустящие исхудавшие плечи, шла на улицу – ловить и считывать в солнечных (игривых быстрых веснушек через край наполненных) просохших переулках кашляющие звуки, ушами и подошвами: шумные, смычные, лабиальные, фрикативные, латеральные, велярные, увулярные, фарингальные, ларингальные – все, конечно же, консонантные.
Дойдя до реки, Агнес заходила в маленькое плавучее кафе с прозрачными стенами (тоже насквозь лучами солнечных отражений наполненное). Сидя в удивительном этом кафе на волнах – как будто без стен – как будто стены из солнца и воздуха! – воображала Агнес (милостиво трансформируя реальность, как бы преломляя реальность на коэффициент будущего – глядя на простых выпивох и обжор за столиками рядом), что сидит уже в каком-то здании на небесах (как будет, будет же однажды ведь сидеть!) в компании удивительных, чутких, тонких (и безгрешных!) знатоков арамита – и беседует с ними (как будет, будет же ведь однажды непременно беседовать!). И вдруг становилось безумно жалко тратить земное время хоть на что-то, кроме подготовки к небесным этим разговорам и встречам, – перед небесными знатоками арамита ох как не хотелось ударить в грязь лицом! – и Агнес, расслабившись было, вплыв было в укачливую житейскую прелесть парадоксально золотого плёса зелёно-грязной Темзы, веселых сытных голосов вокруг и прелестных же тройных пинг-понговых отражений солнца, волн, невидимых стекол и (увы!) – пива на соседском столике, – вскакивала и бежала домой, доделывать главу.
А однажды даже увидела сон, удивительный, солнечный сон – нет, сном, пожалуй, видение это кощунственно было бы назвать! Откровение, дар. Заснув вдруг как-то на полчасика в полдень, после двух дней непрерывной работы, оказалась Агнес перенесена в удивительное, неизвестное, незнакомое, невиданное (но всегда так чутко предчувствуемое!) запредельное пространство: конечно же – за рабочий стол! Но вот где находился письменный этот стол! Вокруг, вокруг – было… Агнес начала с нежным улыбчивым любопытством осматриваться (чёткая, ни на секунду не оставлявшая ее наблюдательная и аналитичная трезвость сознания – были залогом реальности происходящего!) – вокруг были стены – но какие-то легкие, незамурованные стены – и даже не достроенные до конца – низенькие, и в восьмушку, максимум, ширины, с красиво и ассиметрично скругленными краями – ни одного угла – выгородки, как будто театральный намек на стены, скорей, чем защита. И, то, как прекрасно себя Агнес там, в удивительном, личном этом помещении чувствовала, свидетельствовало о том, что защищаться там и вправду не от кого. А вокруг, вокруг – о, это было самое прекрасное и неописуемое земными словами, земными понятиями. Дело в том, что комната эта, вместе с письменным столом, вместе с самой Агнес – легчайше висела в воздухе ни на чём. А вокруг, вокруг! Вокруг, сколько хватало глаз (а хватало их, вдруг, в секунду отдохнувших, избавившихся вдруг внезапно от всякой компьютерной усталости, – до горизонта), – вокруг был… воздух? свет? светящийся чистый свежий воздух – и впереди, и внизу (под комнатой). Эфир – сказала бы она – если бы слово не казалось ей чересчур выспренным. Нет, коврик в комнате был – и даже покоился на полу – но пол сам с удивительной уверенностью и прочностью покоился на воздухе! И внизу – внизу было то же самое – голубоватый, свежайший, чистейший, светящийся дневной воздух! И сколько хватало глаз – назад – и вправо, и влево – было то же самое. Вверху, над ней – разумеется, тоже! – никакого потолка! Солнца нигде видно не было – но мягкий дневной радостный свет как бы был растворен во всём воздухе равномерно. Агнес села за рабочий стол – и выдвинула (справа) второй сверху ящичек – и вынула оттуда бумаги. Встала, положила кипу бумаг на стол, стала их перебирать – и поняла, что здесь, в этом ящичке – всё, что относится к ее периоду жизни с Эндрю. Среди бумаг она увидела ту, что относилась к злосчастному дню, только в начале знакомства с Эндрю, когда она была опоена влюбленностью и, по молодости лет, не в состоянии даже была всерьез понять, какую боль причиняет этим его жене (заочно? незнаемо? тайком? прекрасно… нож в спину в темноте – незнакомой ей женщине, быть может задыхающейся там, где-то, от телепатических приступов прозрения!). В тот день Агнес казалось, что ее жизнь погибнет, если она не будет вместе с Эндрю. Теперь, повертев в руках листок, Агнес вдруг как-то внутренним наитием увидела, что адюльтер с Эндрю, наоборот, едва не убил ее, едва не убил ее душу, ее научный дар. Всё поняв – вздохнула – и убрала всю кипу бумаг обратно в ящик. А уж, задвинув ящик, и сев опять за работу (всё никак не надивясь – то и дело разглядывая с улыбкой красивый светлый воздух вокруг, эту светящуюся радостную воздушно-солнечную чуть-чуть голубоватую взвесь, во всех направлениях, – на которой было так надежно!), Агнес и вовсе почувствовала удивительную легкость: «вот, проблема, которая меня мучила – исчезла. Так же и все новые сегодняшние проблемы, – кто знает, что там еще лежит в ящиках! – всё это ерунда, по сравнению с вот этим чудом вокруг!» – и немедленно проснулась – свежая, бодрая, хотя «проспала» всего несколько минут, – и с удивленной благодарностью счастливо рассмеялась: «Так вот, значит, как будет выглядеть моё рабочее место в Вечности!»
Но бывали и другие дни: мерзкая серятина! – которых, казалось, не переплыть, не перебороть: на небе никакого солнца вообще – ни золотого, ни платинного, ни даже серебряного, ни большого, ни даже крошечного, – одна ртуть, муть. И небо ввинчивает тебя как будто в землю – как будто на голову тебе бросает гигантский серебряный поднос и оттаптывается на нем, с малоприятным звуком. И все никак не разродится дождем – а когда, наконец, дождь начинается – то не настоящий дождь – а так, издёвка, гнусная шутка: как-то подплёвывается – просто чтобы еще больше изгадить настроение! Звонили в дверь из газовой компании и грозили вывезти имущество (флэш-карту хотя бы, мне, надеюсь, оставят, недоумки), если она немедленно же не заплатит квартальный счет.
Впрочем, просматривая готовую уже часть монографии в компьютере, Агнес ярко видела, что бриллианты, истинные сокровища, в тексте, как на вспаханном поле, ею зарытые, и бриллиантовыми деревьями уже взошедшие, и бриллиантовые начавшие приносить плоды, – выработаны, родились именно в такие вот страшные дни депрессии, боли, отчаяния, мнимого бессилия – именно на противостоянии: как будто мир атаковал именно тогда, когда чувствовал, что она в двух секундах от создания этих сокровищ. Поняв это, Агнес прочно запомнила: чем больше сопротивление среды – тем, значит, больше масштаб того, что задумала сделать – и именно это среду пугает, заставляет огрызаться. Значит – надо просто идти дальше, работать в вечность мощнее и аскетичнее – и не ждать награды в виде милого настроения.
Агнес запрещала себе читать новости – но, вот, в воздухе зародились военные слухи и навязчиво запахло эсхатологией – и хотя бы раз в месяц (не яд, гомеопатия!) Агнес, корчась от отвращения, всё же, мировые сводки предпочитала просматривать – чтобы не проспать ненароком конца света! Дикая держава (некогда славившаяся неплохими лингвистами и щедрыми закупщиками древних кодексов), увы, проработавшая весь век почти прошлый в подрядчиках у сил зла, теперь вдруг взглянула на себя в кривое зеркало и, ужаснувшись собственным оскалом в отражении, вновь озверела, и принялась за старое – крушить всех маленьких доверчивых соседей, которые имели простодушную глупость поверить в недавнее империи этой раскаяние. Не надо даже было обладать педантизмом Эндрю, чтобы простроить примитивнейшие два-три алгоритма – пинг-понгом через вечность назад отщепившиеся от интересов Агнес аравийские языковые подгруппы, – которые, с ядерной подачи державы этой, неминуемо должны были теперь, после того, как мировая чека была выдернута, привести к…
Успеть бы. Успеть бы. Монографию, всё же, как-то хотелось опубликовать до того, как дебилы взорвут планету. Впрочем – тоже не велика беда: мою-то уж книгу сразу тогда перенесут на вечные носители, в обход земной типографии. Кроме того – видали мы эти воинственные империи и бесславный их конец – всякие битвы при гавкающих городах, гетеры, поджигающие библиотеки, – и кто теперь вспомнит о них? Разве что, как антураж для параллельной (случайно пересекшей гнуснейшую внешнюю историю) истории языкознания – но уж это никогда и никак не связано было с торжествующим у власти зверьём.
Еще ее очень смешили, до хохота, фашисты – разных стран, разных национальностей – но до невероятности одинакового узколобого интеллекта! Знали бы, неучи, что даже языки свои унаследовали через так ненавистных им всем носителей-евреев, и прочих инородцев-финикийцев, – ведь любое малограмотное фашистское быдло даже не в курсе, что буквы родных их алфавитов, которыми они так кичатся, родились (все до одного!) от финикийского и иврита! Как прекрасен этот виртуальный танец букв – когда, проворачивая и вертя, хулигански, финикийские и древнееврейские значки в воздухе, в невесомости, как будто в компьютере (выворачивая их изнанкой или вертя кругом!), в объемной графике, – можно было разгадать в них будущие буквы греческие, латинские – а значит, и английские, и немецкие, и французские – и даже русские, и даже индийские!
А вот грянуло (как всегда поправ календари) лето – и какое! Книга была практически готова – и, как при прорытии подземного Силоамского тоннеля – из источника Гихон в Кедронской долине – внутрь окруженного городскими стенами Иерусалима, – ровно в ту точку, где заранее, с хорошим историческим запасом, нужно было создать чистый источник Силоам вместо застоявшегося пруда, – палеоеврейские каменоломы, сами не зная того, уже жаждавшие квадратного арамейского письма, еще ударяли киркой, каждый навстречу другу своему, – но оставалось пробить в камне всего-то-навсего три локтя – и слышен был уже возглас одного, обращающегося к другому. Собственно, оставалось написать яркий заключительный синтезирующий кусочек, с образом, пожалуй что, именно Силоамским, чтобы закольцевать книгу не только к началу – но и выпустить луч к будущему; и навести привередливую правку: проверить, не слишком ли в лоб, не слишком ли прямолинейно заявлены в книге иные идеи, – лучше ведь жесткой чередой фактов кое-где подвести читателей к выводам самих. Тех драгоценных двадцать пять – двадцать семь (ну или пятьдесят – если быстро сделают перевод) читателей на терпящей бедствие планете, которые книгу в состоянии будут понять. Но голос, полновесный голос живой, родившейся книги уже, из-за последней каменой стенки-преграды, безусловно, звучал. И ударили каменоломы каждый навстречу другу своему, кирка к кирке, – и пошли воды от источника к водоему Шилоах.
Бесплатно
Читать книгу: «Искушение Флориана. Маленькие романы»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке
