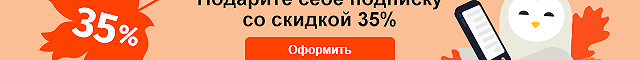
Но скорей всего они ничего предосудительного не видели, так как, астматически дыша и застилая сказочный мир вонючим дымком, снова, взблескивая стеклянной чешуёй, проплывал катер. Пройдя поспешную дезактивацию тополиного фильтра, голубой дымок проникал в открытое окно, а катер, закончив трансляцию на всю катушку вызубренного экскурсоводом урока, уже в музыкальной паузе – запускалась запретная «музыка на рёбрах», что-то из репертуара Лещенко, Козина («Веселья час и боль разлуки») – тащился к широкому тёмному провалу под Синим мостом Исаакиевской площади и дальше, дальше – к красным стенам с аркой Новой Голландии, туда, где у заросшего лютиками и одуванчиками лубочно-зелёного берега жестокий копёр гулкими ударами вбивал в илистое дно металлический шпунт. Тем временем Кира – свежая, поплававшая в каком-то волшебном бассейне – с удовольствием одевалась, и они, готовые выбраться в свет из зазеркалья своего курдонёра, чтобы слегка подкрепиться и поразвлечься, вдруг (всё ли в порядке?) оглядывались, смотрелись в шкафное зеркало и лишь затем, подбадриваемые немыми восторгами случайных прохожих – они согласно теряли головы от лучистой удивительной пары, – и уже возбуждённо, как если бы услужливо вывернулось пространство, трансформируя свой курдонёр в уютный камерный зал, где и зрителями, и исполнителями на сцене были только они, удобно (очень!) располагались в плюшевой ложе и с ненавязчивой помощью сухого вина упивались зрелищем, чтобы получше разглядеть детали (глаза, глаза!), передавали друг другу изящный, облицованный слоновой костью и бронзой, с подвижным колечком, позволяющим плавно регулировать резкость, театральный бинокль.
Потребуется совсем немного усилий, чтобы припомнить: длилась прекрасная эпоха, те недолгие времена, когда сумасшедшие желания чудесно сбывались… До нудно-прагматичных лет великого дефицита и последовавших за ними тектонических потрясений ещё было далековато, Соснина ещё волновали улыбка, взгляд, ну а улыбка, взгляд таинственно мерцающей, переливающейся оттенками Киры – тем более.
Не верится, но: было поздно, часов десять вечера, суббота, они только прилетели, гудящий рой страждущих у мрачной, из рваного бурого камня средневековой стены, словно по команде, смолк, швейцар повернул ручку замка, угодливо распахнул стеклянную дверь, и их, (только их!), словно по звонку свыше, пропустили в «Глорию» – вожделенную ресторацию эстонской столицы, церемонно подвели к (специально для них?) сервированному на двоих столику с малиновыми флоксами в вазочке, музыканты заиграли для них. Напористого, неукротимо наваливавшегося на клавиатуру пианиста помимо апоплексического загривка представляла, содрогаясь, чувствительная спина, невозмутимый дылда-контрабасист, этакий флегма с пепельными курчавыми бакенбардами, закатывал глаза, загоняя зрачки под веки, как бы весело устрашая голубоватыми белками зал, цеплялся за струны (дёргал, прижимал) клешнями нервных и сильных, неестественно длинных пальцев, но особенно усердствовал пучеглазый симпатяга-ударник, который в паузах между барабанными трелями, смахнув жемчужинки пота, хватался ещё и за какую-то погремушку и приветливо улыбался, только не криво растянутым ртом или выпрыгивающими из орбит глазищами, а будто бы сразу всей – с тугими пятнистыми щеками и мокрым лбом – накрепко приделанной к могучим плечам жабьей физиономией. Короче, обстановка накалена, гульба в разгаре, да что там музыканты – едва войдя, Кира сразу едва ли не всех, кто пил-жевал, покорила. Или прану посылала всем едокам, а те, не понимая за что, радостно благодарили?
В другой раз, в другой, опять будто бы по небесной протекции приютившей их прибалтийской столице они вопреки строжайшим высокоморальным правилам заселения, выписанным крупным шрифтом и взятым в рамку, даже получили номер в центральной гостинице, и только потому, что понравились их лица. Чудеса, конечно, но ведь в этом призналась, хотя её никто не тянул за язык, сидевшая за казённым окошком фея средних лет. Она ещё им пожелала удачи, и вот Соснин, насвистывая какой-то прилипчивый мотивчик, вращает на кольце вокруг пальца бесценный ключ с жетончиком (жест победителя, баловня судьбы), пока Кира перед большим настенным зеркалом на лестнице поправляет причёску, и они, восхваляя везение и перешучиваясь, поднимаются не без торжественности по лестнице…
Словно с ходу оправдав рекомендации безвестного покровителя (ангела-хранителя?), Соснин и Кира, похоже, приглянулись старому холмистому городу с костёлами, башней на горе – им предоставлялось гармоничное окружение. Ну а насытившись впечатлениями, усталые и довольные, они падали на широкую кровать в своём очищенном (гадкий запашок дезинфекции) от клопов номере. Пожелание гостиничной феи сбылось – им везде сопутствовала удача.
И погода была отличной, светило солнце, и сквозь горячие содрогания воздуха они шли по берегу зеркально-гладкого зелёного озера, глядя на выраставший из чешуйчатых крон замок.
«Та-та-та-а», – трубят, открывая праздник, фанфары из транзистора девочки-контролёрши, обрывки билетов летят в урну. Перешли мост через защитный ров, вошли в тесный замкнутый двор, поднялись по крутым, консольно заделанным в мощные красно-кирпичные стены лестницам с грубыми, из чёрных брусьев, перилами, подошли к одной из бойниц – вырезанному в красном массиве стен небольшому, с толстым откосами, проёму во внешний – фантастический, режущий глаза игрой света и сине-зелёных красок – мир неба, воды, деревьев.
Красное и – сине-зелёное?
Контраст дополнительных цветов, вот и слепящая яркость…
Но много позже, уже здесь, в кафе у пицундской пристани, понял, что был не прав, сводя эффект зрительного впечатления к азбучным закономерностям колористики. Свето-цветовая яркость, подверженная шантажу психики, много сложнее, тоньше, свет и цвет зависимы от накала возбуждения, и потому интенсивность и мера воздействия их не поддаются объективной оценке.
Короче говоря, нашёл то, что и искал: флёр.
Так, семья графа Тышкевича, владельца замка, на старой фотографии: длинные белые платья, улыбки женщин, белые хризантемы в петлицах чинно позирующих усатых мужчин в чёрном (граф, сыновья). О чём думали они, пока возился с громоздкой камерой на треноге усатый фотограф в мешковатых, в ёлочку брюках-гольф с широкими, стягивающими ноги ниже колен манжетами, пока сосредоточенно наводил на фокус? Люди давно истлели, исчезнувшие атрибуты той жизни давно забыты, так же как много раньше исчез и забыт рыцарь, обладатель этих мертвенно отливающих (словно лунным светом) металлических доспехов, выставленных в углу.
Извечная каверза, прошлое – горчит, ибо и дома, и люди, и вещи, которые им служат, разрушаются, уносятся ветром-временем; былое зарастает бурьяном, потом, если повезёт, деревьями…
Н-да, оригинальное соображеньице.
Однако глубокомысленно продолжал: вот премилый макет фортификационных сооружений замка, уменьшенный муляж, а где те натуральные фортификации, те, что когда-то останавливали врагов?
Вниз?
Вниз по массивным, висящим в воздухе лестницам.
Снова – через вымощенный крупными булыжниками двор замка, цоканье Кириных каблучков-гвоздиков по деревянному настилу моста, снова, только другой тропинкой, вдоль зелёной воды, густой, волнистой под ветром травы, ромашек, одуванчиков, дальше, огибая пригорок с плакучей берёзой, – что за ним, за пригорком?
За ним, жеманно выгнув дугою берег, открылась захолустно-цивилизованная Аркадия: дебаркадер маленькой пристани с раздвоенным белым тельцем прогулочного катамарана, на прогибающихся мостках – современная прачка (завивка, мини-юбка), плюхавшая рубахой-пузырём по взбаламученной воде, запущенный сад, обсыпанный кисло-зелёными точками ещё не налившихся соком яблок, петух, выводивший свой гарем из опасного репейника в уют лопухов, ещё что-то в том же пригородно-сельском духе, но главное – был стеклянный кубик кафе, столики на терраске.
Сели за столик, пополам разделённый тенью от полосатого брезентового, на растяжках укреплённого тента; под хлопающим на ветру парусом шумно купались в воздухе воробьи.
Белокурая (клипсы, морковная помада) великанша принесла всё, что было в витринке буфетной стойки. Пили холодное свежее пиво, ели ржаной хлеб с тмином и какие-то удивительные тёплые, сочные, пахучие огурцы: кружками нарезали их, обмакивали в крупную соль, аромат усиливался; пропитал память огуречный тот аромат – столько лет минуло (сколько?), многое из того, что и поважнее было, выветрилось, но беспримесно-чистый огуречный аромат навсегда, наверное, сохранился в нём – не теперешний, парфюмерной инъекцией впрыснутый в длинные, уродливо-кривые мутанты массового парникового производства, а естественный, огородный, поверх всяческих сантиментов отбрасывающий в детство.
Вдыхая его, Соснин снова подумал о цвете, тайнах живописи и неброской, в постоянном брожении полутонов и оттенков живописности Киры, неотделимой от того бесплотного, как полёт, дня.
Буклированная цветовая ткань, образовывая (и словно обёртывая) пространство, подступала вплотную, просачивалась в бескрайнюю, перегороженную лесами и дорогами даль, однако даже в непосредственной близости почему-то не утомляла пастозностью рассчитанной на восприятие с определённой дистанции живописи, а в любой своей точке несла ласкающий (для развращённого импрессионистами глаза) эффект цветоносного воздуха, размытости контуров всех предметов, красочной мягкости перетеканий. Кира же дивно сливалась с интерьером, пейзажем, словно, получив сигнал по телепатическому телетайпу, заранее знала, что наденет и как будет выглядеть; во всяком случае, никогда не ошибалась, предвидела, в какой предметно-цветовой среде должна очутиться.
Она не солировала, а с непринуждённым изяществом вписывалась, иногда могло почудиться даже, что силуэт её растворялся в цветном тумане, но это был, разумеется, обман зрения.
Чем не картина?
Разные жанры сплотились в условной раме – натюрморт, фигура, пленэр: колеблющая стол, подчиняясь колебаниям тента, подвижная граница света и тени, огурцы на тарелке, янтарное прозрачное пиво в кружках, отдыхающая от летнего веселья на солнечной половине стола крупная жёлто-зелёная стрекоза, зелёные мазки всех оттенков – листья, трава, вода; опьяняли зелёные краски, да ещё было погружённое в них сиреневато-синее, в мягких складках, Кирино платье, и вдруг снова вступали в игру дополнительные цвета, её рыжеватые (мёд на просвет) волосы накладывались на кобальтовую полоску дальнего, касающегося неба леса.
Флёр?
Но – густой, пастозный…
Натура – порождение импрессионистских холстов…
И всё переливчато поблёскивает, заимствует и отторгает оттенки, и мерцает, дрожит, и словно кто-то струну боязливо трогает (из-за пригорка, кстати, доносились переборы гитары), и не тент их уже накрывает, а крыло дельтаплана с подвешенной в виде столика и двух лёгких стульчиков вместе с седоками гондолой.
Оторвавшись от плитняка, они парят в восходящем тёплом потоке; стрекочут кузнечики, чирикают воробьи, ку-ка-ре-ку-у-у – истеричным тромбоном подключается к концерту петух…
Наспех укомплектованный ковчег без руля и ветрил?
Они болтают, смеются, не замечая, что плывут, взмывая выше и выше над разморённой зноем землёй.
И хотя нашему грезящему герою случится ещё не раз и по разным поводам отрываться от грешной земли, этот полёт интересен тем, что, унося ввысь, позволяет, сбросив символический балласт, не мучаясь никакими земными противоречиями, полюбоваться живописными ландшафтами – всё как на ладони. Слепит, правда, солнце, но – повернул голову, чтобы рассмотреть получше сквозь большущие очки ансамбль замка (колодец двора, скаты крыш) и – смотрит, смотрит и, элегантно уцепившись за снасти дельтаплана, с непринуждённостью настоящего воздушного аргонавта, упиваясь счастьем, позабыв даже о Кире, летит один, совсем один… А двое (он-то здесь, на небесных путях, но где и с кем Кира?), оказывается, остались под дурацким полосатым тентом внизу, слушают его трепыханья-хлопанья на ветру, пьют, а он тем временем (вот проныра!) любуется замком, и всего его наполняет восторг. Как восхитительно лететь одному, не отвлекаться на разговоры и, оставаясь незаметным, всё видеть сверху там, внизу, на этой древней, но так и не уставшей стареть земле. Ввинчиваясь в годы, он кружит над зелёными тракайскими озёрами, пока не влетает – авария: стекло из очков выпало, один глаз смотрит в дырку, в другом что-то вроде розового монокля – в охристо-оранжевую, почти безлюдную осень. И только две фигурки – какая-то женщина с длинными чёрными волосами в сером пальто и чем-то нам знакомый мужчина с зонтом-тростью – идут по тропинке в сторону дебаркадера. И ему приходится торопиться, он резко меняет расположение брезентовых плоскостей, легко опережает непрошеных визитёров. Кира и он плывут, оказывается, послушные воздушному течению, вместе, жуют пахучие бледные, в тёмно-зеленых ободках кожуры кружки огурцов, пьют душистое пиво, откусывают хлеб с тмином… И как же хорошо не заглядывать озабоченно в лоцию, не поправлять тяжёлые командорские очки, не крутить, напрягая мышцы, руль, догоняя и обгоняя облака, а обморочно плыть в насыщенном зелёными сухими брызгами воздухе.
«Здесь хорошо, только, Илюша, милый, поедем-ка поскорее», – и (ха-ха, проснулась!) обнял её за плечи, как в первый, после киносеанса, вечер; они торопливо шли, почти убегали от зелёной воды, потом ехали в автобусе, ехали… и чуть ли не запыхавшись вбежали в своё временное жилище с широкой кроватью.
Час, два, три минуло, пока в клозете за стеной номера не взревел опорожнённый бачок унитаза?
Кира переоделась, и когда они спускались по лестнице, чтобы где-нибудь поужинать, Соснин увидел в большом зеркале парный (в натуральную величину) портрет в интерьере – в стареньком интерьере с пилястрочками «под мрамор» и болотной (с проплешинами) ковровой дорожкой, н-да, трогательная и даже мажорная картина: навстречу, медленно вырастая, спускалась Кира в розовом и он (как всегда, в чём-то неопределённом), но лица, лица… И можно вообразить, как он, забыв о голоде, залюбовался, захотел передать ей бинокль (сияние глаз!), однако в правое ухо ударил вдруг атональный шум (коридорная склока? Выбрали время!). Какой-то старый хрыч в защитного цвета френче дрыхнул, свистя носом, на диванчике в боковом кармане, а Соснин оступился, дёрнулся (опять!) однако снова посмотрел в зеркало: неудивительно, что их лица так понравились «хозяйке гостиницы», – они подчиняли себе пространство, одухотворяли его ожиданием (чего?), надеждой (на что?), хотя марш Мендельсона, конечно, не звучал и они спускались по лестнице, а не поднимались.
И здесь (с безжалостным ехидством ребенка, мстящего взрослым?) память монтирует встык совсем другую картину: спускаться дальше некуда, близок тихий, без слов, разрыв, отвёл как-то глаза, не сказал прямо, и покатилось, а пока – долгое, изнуряющее души прощание, после которого куда-то раздельно потекут жизни.
Сидели в крохотном, в нише ресторана – на ступеньку выше зала – баре «Астории» (почему-то ни разу, хотя всего-то надо было бы перейти площадь, не заглядывал сюда с Лерой). Ресторан за лёгким барьерчиком был удручающе пуст. Скоро налетят интуристы, русская зима, блины с икрой, сбор валюты, а пока – предновогодняя уборка, беспорядочно сдвинуты голые, без скатертей, столы, воет полотёр (скипидарный, до головокружения противный мастичный душок), втаскивают в зал комлем вперёд покойницу-ель… Что-то беспокойно переходное витало в пыльном воздухе, что-то ломающее заведённый ход времени. Подготавливались конец для них и новогоднее начало чужого праздника. Да, год был на исходе, до замены календарей оставалось чуть больше недели.
А пока им приходилось сидеть на таком вот разорванном (перегруженном щемящими деталями) фоне – второй план в каком-нибудь претендующем на психологический раздрай фильме? – антураж расстроенных чувств, беспокойно-грустный аккомпанемент из случайных звуков: звякала чашками буфетчица в дурацком кокошнике, где-то по-соседству, за белой остеклённой перегородкой, ресторанные лабухи, разучивая что-то, нудно дудели в трубы, и ещё какие-то глухие звуки из кухни, и стук молотка, и передвигают что-то тяжёлое, а тут, в закутке бара, вроде бы островок уюта – варят кофе, разливают напитки.
Артистично вписываясь в среду, Кира и здесь сумела слиться с болезненно-переходным окружением, только безвольно как-то, испуганно даже, несмотря на улыбку. Ей (глаза – как расплавленный шоколад) идёт этот тонкий бежевый свитер с ромбовидным коричнево-серым узором, очень подходит к цветовой гамме нового натюрморта: чёрный кофе в маленьких чашечках, розово-бежевые с завитками коричневого крема клиновидные куски торта, всё удачно соединилось, и как всегда – сигарета с охристым мундштуком фильтра в лёгкой, с агатовым кольцом на безымянном пальце руке. Но не преображался интерьер, как летом в Вильнюсе, на гостиничной лестнице с зеркалом. Пожалуй, сейчас, в барном закутке, на фоне безлюдно-хаотичного ресторанного зала, сама Кира лишь подчинялась неуютному окружению, душевных сил, наверное, на сопротивление у неё уже не было; задрожал смятый обидою подбородок…
И Соснин, всё понимая, ничего не мог, не умел изменить, не мог сказать твёрдо, он не только начала боялся, но и конца тоже, беспомощно, утратив привязки и ориентиры, трепыхался – ха-ха, физик-теоретик забыл законы Ньютона? – что-то Кире рассеянно отвечал, придурковато мыча, растерянно стал есть торт с её блюдца… Конца, может быть, боялся даже больше, чем начала; положение преглупое, в таком смятении поневоле хочется всё оборвать, закончить, да, лучше всё же ужасный конец, чем ужас без конца, и она (распрекрасная), запинаясь, что-то бормочет, но как закончить, как не тянуть резину?
В начале всё-таки было легче – ещё неизвестно было, куда всё повернёт, мелодия вела, как в танце, и – хорошо; а сейчас?
Джаз своё отыграл, бал свёртывался, н-да, хватит, расплачивайся по счёту, н-да, он – мастер середины, развития, продолжения: виртуозно вел миттельшпиль, просто король миттельшпиля – юмор, шутка, умение поддеть себя и других, если надо было по ходу партии – отступал, готовя ответный выпад, а вот к концу партии спасовал (гроссмейстер, пасующий в эндшпиле? Ха-ха) – всё ли сказано? Понятно? Не добавить ли чего? и вообще нужна решительность истукана, чтобы поставить точку самому, а не ждать, пока это сделают текущие обстоятельства; и никто из них двоих в утомительном топтании на месте не брал лидерства на себя, так получалось, что в проигрыше были оба, хотя она больше проигрывала, пожалуй.
Но окончательный разрыв случится потом, через сколько-то месяцев, а потом, потом – время летит, увы, – через годы, кажется, случится её новое неожиданное и неудачное замужество, да ещё будут какие-то квартирные осложнения (дом отбирала соседняя швейная фабрика?), переезд с набережной Мойки в панельную тьмутаракань, уход мужа, будни – будни старения.
Ну и что?
Мало ли что произойдёт потом, после него? у неё будто бы спаниель появится, разные жизненные курсы, больше не пересекались. А тогда, в Вильнюсе, на гостиничной лестнице, спускаясь себе навстречу, с любопытством (и восторгом, да-да!) всматриваясь в свои победные лица, они легковерно продолжали дневное парение, плыли, не зная обо что и когда разобьётся их небесный корабль, не собираясь угадывать, что их ждёт дальше, просто плыли и не хотели ещё на что-либо отвлекаться.
Нет-нет, это не было дрожащее, поворачивающееся авторской волей, фривольно подмигивающее зеркало искусства.
Это было обычное, большое (в пропорции 1:1,5), отшлифованное каким-то местечковым Спинозой и точно по оси лестницы укреплённое над промежуточной площадкой зеркало, старое, отразившее и запомнившее многих, но их оно впустило в зазеркалье и поглотило последними… Парное отражение, перед тем как исчезнуть – им предстояло свернуть в сторону, чтобы перейти на другой марш, – было чистым и ясным, хотя, если присмотреться, с краю – слегка затуманенным дыханием лет, а от рамы зеркала (через фаску и дальше) расходились разъедавшие амальгаму трещинки.
О проекте
О подписке