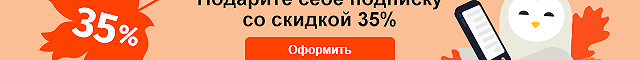
2. Кира
Впервые Соснин увидел её (назову её Кирой) давно, ещё до Леры – коснулся взглядом и прошёл мимо.
Заиграла, правда, где-то в глубине души, приведя в вибрацию фибры, какая-то невнятная увертюра, хотя тут же и оборвалась – не стоило дёргаться, не в метро ведь, где нельзя медлить, сомкнутся резиновые губы дверей и…
Короче, отсюда, из вестибюля проектного института, она вряд ли могла исчезнуть бесследно: коснулся боковым зрением, отметил, пришлёпнув знак качества, и – мимо.
Затем сталкивался с Кирой на лестнице, в увешанном выцветшими подрамниками коридоре, улыбался, и она, кивнув ему, улыбалась; похоже, взаимная симпатия вызревала, но только через несколько лет, уже после Леры, встретив её на Невском, сразу же подошёл, заговорил с ней, как с давней знакомой, и почему-то отправились они в тот вечер в кино – такое было начало.
Вообще-то в те далёкие годы Соснин не без затруднений преодолевал внушённую раздельным обучением стеснительность, ни на улице, ни тем более в метро, где требовалась особая быстрота реакций, за девушками не увязывался, заторможенность лишала импульса инициативы – как, с чего начать?
О, уже после первой-второй фразы он мог бы, импровизируя, продолжать-развивать беседу, а вот начинать – не умел.
Пожалуй, исключение из этого правила лишь Лера подарила ему, экзотичная Лера – к ней толкнуло, волшебно раскрепостив, острое любопытство и мальчишеское желание тут же, не сходя с места, доказать себе, что он достоин быстрой победы.
Сейчас, однако, установление эмоционального контакта с Кирой тоже не потребовало никаких специальных усилий.
Просто первый шаг к такому контакту растянулся на годы: после многократных кивков с улыбками на лестнице и в коридоре естественно было бы посчитать, что случайная встреча на Невском – не начало вовсе, а продолжение.
Так и посчитал.
Пока пересекали Марсово поле, шли по Троицкому мосту, внутренние вибрации внятно преображались в музыку, – забренчала арфа, ещё какие-то смычково-струнные инструменты… и даже что-то нервно выдохнул саксофон.
Когда вышли из кино и Кира присела на садовую скамейку у «Великана», чтобы раскурить сигарету, державший её за плечи Соснин, скосившись на размахавшуюся не ко времени метлой каргу-подметальщицу, наклонился, поцеловал.
Кира безвольно как-то и виновато высвободила губы, засмеялась тихим, чуть хрипловатым смехом, потом чиркнула спичкой, долго жадно затягиваясь и выпуская конус голубоватого дыма в пляшущее облачко комаров, молча гладила его жёсткие волосы, смотрела вслед удалявшейся на помеле карге, о чём-то думала – думала, наверное, о том, куда всё это приведёт.
А привело это – и довольно быстро, – в её узкую и длинную, как пенал, комнату с высоким окном, смотревшим на сонную Мойку, на неряшливые, сорившие пухом тополя, на массивный тёмно-графитный дом за ними, на противоположном берегу Мойки, – дом с пухлыми каменными амурами, которые бесстрашно, как лунатики, прохаживались по карнизной тяге предпоследнего этажа.
Соснину хотелось бы продлить томление неспешных прогулок с красивой женщиной, продлить влюблённость, а не спешить к любви с её незалечиваемыми ранами на изнанке краткого счастья, однако продолжение означало и дальнейшее развитие сюжета; натягивались струны, тревожно усложнялась музыкальная тема.
И вот – сердце упало, и – падало, падало в бездонную пропасть, пока зеркало на дверце ветхого платяного шкафа, со злорадным спокойствием удваивало ширину комнаты, а качнувшись, добавляло в комнате зачем-то еще ещё одну кровать с высокой металлической спинкой, увенчанной тремя (четырьмя?) тускло поблёскивающими, как среднего калибра пушечные ядра, шарами-набалдашниками, лоскут коричневато-ржавых обоев с амфорами, тополиную шевелюру за пыльной фрамугой, вымыть которую не было, наверное, никакой инженерной возможности. Тем временем, смущённо прячась за открытой зеркальной дверцей, почти забравшись в шкаф (выпрыгивали из-за дверцы неловкий локоть, золотисто-рыжая волна причёски, округлый бок), Кира аккуратно повесила на плечики розовую кофточку (оголился локоть), медленно расстёгивала (на видимом боку) молнию юбки. Соснин же рассматривал ещё и взлетевшего на шкаф (чтобы всё видеть?) целлулоидного пупса, а в зеркале, в сопровождении филёнчатой двери и угла белой кафельной печки – свои ноги-ходули, впалый живот под хворостом рёбер, потерянное лицо; а поверх края зеркала отвратительной бормашиной жужжала, билась в судорогах, тараня пыльное стекло фрамуги, жирная муха, хотя одна из оконных створок была открыта – на горизонтальном горбыльке створки лежал тополиный пух. Из-за зеркала высунулось вдруг (вот оно!) бледно-розовое бедро, прострелил навылет карий глаз, но дверца резко качнулась, выметнув ядовитые жала-язычки галстуков (чьи? Бывшего мужа?), показав только пёстрое крылышко надеваемого халатика, но шкафная дверца успокоилась, и Соснин ощутил головокружение, знобящую дрожь и – словно после тяжёлой болезни – слабость в ногах, а внутренний голос, садистски резонируя с жужжанием мухи, повторял сомнения: ещё не поздно, стоит ли ввязываться? И – поздно, поздно! На какую-то долю мгновения его приняла шаткая палуба, и он сорвался, нелепо жестикулируя, в веерообразно распахнувшуюся мутно-коричневую пучину, дёрнулся, беспомощно дрыгая ногами, закачался в тёплой похлёбке воздуха, словно клоун в цирке, зацепившийся за спасительный крюк резиновыми подтяжками, но отцепился, исчез из зеркала, освободив комнату для её постоянных немых предметов; равнодушно поблёскивая, точно ничего необычного не ожидалось, металлические ядра, привинченные к узорчато-фигурной спинке кровати, неслись в нервный тик листвы, накрытой пыльным зафрамужным небом.
Поздно отступать – он ввязался, и Кира, наверное, что-то затруднённо шептала, и он, должно быть, целовал её смущенное, вдавленное в подушку лицо, а потом, слегка обиженный и удивленный её робостью, почти неопытностью, разгадывал причину испуга, виноватых, пытающихся спрятать начавшее увядать тело движений рук, натягивающих до подбородка простыню, и думал – они похожи?
Легко ли ей пускаться в новое, рискованное в её годы любовное приключение?
Но как же им спокойно теперь – мирно лежат рядышком, а муки одержимого желаниями-сомнениями начала оставлены позади, и разумнее было бы вообще ни о чём не думать, пока пробившийся сквозь тополиную листву свет не оборвёт сумасбродный вальс сновидений.
Много позже, склонный к отвлечённым размышлениям Соснин понял, что Лера любила его страстно, но – временно, сезонно, не ломая привычного уклада жизни, вполне комфортной, не строя планов на будущее, не желая рисковать, приносить и малые жертвы к условному алтарю.
Лина же любила, вынашивая цель, которую, если бы захотел, он, наверное, мог бы разделить с ней, и тогда – все прочно (?), счастье (?) совместного (?) открытия (?) свободного мира.
Но он не захотел, не разделил – с какой стати? Что ж, и она не захотела дать ради него задний ход, свободный мир отправилась открывать для себя одной.
А вот Кира не ставила условий, доверчивая и отрешённая от всяческой суеты, привыкшая в тихом одиночестве сопротивляться рутине, – любила, как жила, плывя по вроде бы спокойному, без быстрин и порогов течению, но готовая всё поменять, терпеливо крепить союз, чтобы принадлежать всегда (ого!) – пусть только позовёт.
Не позвал, незаметно для себя в решающую минуту отвёл глаза, заметил, что она это заметила, сразу заметила, смешался, понимая, что это начало конца, но невольно попустительствуя запредельному доброхоту, который, непрошенно выхватив из тьмы ножницы, подрезал крылья; да, не оправдаться, не стоит и пробовать.
Но это так, отступление.
А пока слонялись по городу – он, взволнованный, словно первопроходец, удивлялся новизне давно примелькавшихся ландшафтов, живописности их, знакомых, освоенных ещё в детстве: узкие, пружинящие под ногами грифонно-львиные мостики, чугунные канделябры, осыпающиеся, тускнеющие (за компанию с кривляющимися в запустении каналов отражениями) жёлто-белые особняки, опять Мойка, присыпанная тополиным пухом, площадь, бронзовый всадник на вычурном пьедестале, златоглавый собор, а вот и беломраморные братцы-диоскуры (поднявшиеся из своего подземного царства, чтобы ими, Сосниным и Кирой, полюбоваться?) и опять всадник, Медный, и простор, слепящий блеск невской глади, и – опять – разлинованный простор имперского центра, кусты махровой сирени, ряды лип, стройная гранитная ваза, нарцисс-лебедь, волшебная графика чугунной ограды, проштриховавшей небо и воду; да, из Летнего сада они в который раз выходят на набережную.
В стареньком обтекаемом речном трамвайчике, казалось, погружённом по маленькие окошки в воду, уплывали на растоптанные Культурой и Отдыхом острова, ненадолго (на час-полтора) располагались на травяном откосе пруда (под своей ивой) или на пыльно-песочном пляжике у лениво струившейся Невки; было прохладно, Кира с удовольствием не раздевалась.
Но как же передать зыбкое очарование тех дней?
Разве что одним словом: флёр.
Бежали облака, сквозила бледная голубизна в прорехах подвижной ваты, в солнечно-сизых играх светотени знакомые ландшафты действительно менялись до полной неузнаваемости, а опьянение глаз лишь усиливалось – неузнаваемо-колоритными и необъяснимо волнующими вдруг представали задворки великого города: охристо-серые брандмауэры и потемнелые краснокирпичные цеха, штабели сырых досок, торчащие из угольных развалов с чёрными трубами на проволочных растяжках, котельные, покосившиеся заборы и запахи мазута, смолы, бензина, и все это у воды – бесцветной, с серебристо-ржавым отливом и внезапно искрящей, будто бы подожжённой; яхт-клубы с наледью подслеповатых окошек, обшитые вагонкой, посеревшие от дождей эллинги с отциклёванными кедами пандусами, бухты канатов, разложенные на просушку на траве паруса в грубых заплатах; обгоняя бегущую тень облака, спешит к заливу острая и обтекаемая, как глист, восьмёрка, понукаемая ванькой-встанькой рулевого, туда-сюда мотающегося на корме; Петровский дуб в мемориальных цепях, обсаженные прутиками торжественные подступы к стадиону имени Кирова (кстати, кстати, Кира и своё-то имя получила потому, что родилась в день смольнинского выстрела), цепочки велосипедистов в мокрых майках; «купаться в прудах категорически запрещается», зато под брезентовым тентом – свежий хлеб, набрякшие тёплой влагой сардельки, алюминиевые гнутые вилки, сифон с газировкой… И опять, опять: продрогший рукав реки, вытекающей в свинцовый залив, устало опирающееся на деревья хмурое небо, грязно-зелёные, в проплешинах, пустыри, визг пилорамы, шум листвы, порывы ветра, далёкая музыка, клёны, берёзы, ивы, голоса, гудки, звонки, стук трамвайных колёс по вдавленным в асфальт рельсам; далёкий могучий коллективный выдох из гигантской земляной чаши на берегу залива – футбол?
Удастся ли выбраться из возбуждённой толпы?
Расцвеченный корабельными флажками мост заскользил вверх по течению на громоздких клетях бревенчатых опор…
По тропе в зарослях крапивы приближались к одичавшему в таинственной тишине и сумраке клёнов буддийскому храму, но дождик зашуршал по листве…
Вечерами Соснина и Киру нередко можно было увидеть в бельэтаже Европейской гостиницы, в ресторане с изысканно вырисованными деревянными деталями лож-балконов в стиле модерн, с жёлтыми матерчатыми торшерами и многоцветным сияюще-подсвеченным витражом в торце зала, за оркестром балалаечников в алых атласных косоворотках. Интуристы пялились, одобрительно кивали головами. Как хороша была Кира в этой пёстрой атмосфере в своём нежно-розовом свободном костюме из поплина с овальными перламутровыми пуговицами!
И опять, опять – как погружение в цветистое марево – особая вечерняя живописность торжественного лидвалевского интерьера, да ещё – мягкие ренуаровские краски Кириного лица, складок костюма; подвижные и словно непрестанно подбирающиеся на незримой палитре краски!
Это была ещё влюблённость или уже – любовь?
Кто знает.
Но уж точно, как во время городских прогулок, так и сейчас, в жёлтом излучении торшеров, его томило-бередило цветистое наваждение.
Рыжеватые, с медовым оттенком волосы, линии чёлки и боковых, чуть подвёрнутых крыльев прочерчены, а форма, контуры причёски меняются при каждом повороте головы.
А плавность жестов?
А горячий блеск тёмно-карих глаз?
Вкус и врождённое чувство атмосферы, уверенность в уместности своего не знающего о штампах облика.
Она, утончённо одетая, и он, небрежно экипированный, – странный эстетический комплекс, который, оказалось, был на пользу обоим: визуальная загадочность этого союза, взвинчивая интерес, поощряя фантазию, производила заведомо благоприятное впечатление.
В чужих глазах Соснин, безусловно, выигрывал, так как мысленно наделялся некими исключительными достоинствами, позволявшими объяснить себе его счастливое право на сопровождение такой женщины.
Но и Кира, пожалуй, выигрывала не меньше; поскольку танцующий с ней кавалер был ничуть не озабочен собственным обликом, его воображаемые внутренние ресурсы (ум, профессиональные знания, половая мощь – всё, что угодно!) стремительно вырастали в цене, не только оттеняя небрежность одежд, но и окутывая имидж кавалера (гроссмейстера? Физика-теоретика?) ореолом тайны, намекавшей, однако, вполне внятно на то, что и эта красивая, с аристократической изысканностью, хотя и неброско одетая дама бальзаковских лет тоже добилась редкостного успеха; разве не почётно, перебирая и взмахивая крепкими ножками в вернувшемся вдруг из небытия чарльстоне, благодарно заглядывать в глаза такому партнёру, нежно обнимая его за худую шею и сжимая в своей руке его, ей одной принадлежащую руку?
Кира на полшага опережала моду – угадывала тенденцию, художественную направленность линий, мысленно выкраивала, смётывала, примеряла на себя, и поскольку новая мода в чём-то всегда отрицала предыдущую, а Кира крутых перемен побаивалась и предпочитала вкусовую умеренность, её прогностический взгляд как бы и сам по себе смягчал резкость, показную определённость по последним шаблонам выкроенных фасонов. Казалось даже, что Кира, чтобы быть впереди, намеренно на полшага отставала от одетых в парижские тряпки модниц; всё на ней было скромно и – артистично, оригинально – но без экспрессии; играя нюансами, выдерживала качество строчки, шва, знала, как и где использовать твид, тафту, саржу, тесьму, бортовку, корсаж, кружева, гипюр – что еще? – мулине и прочие необходимые индивидуальной мастерской моды атрибуты швейного совершенства.
Интуристы, разочарованные было тем, что тарелки с жареными цыплятами в развесистой клюкве подносят не белые медведи, а заурядные шельмоватые официанты с пристойно засаленными рукавами чёрных подобий смокингов, слегка приуныли. У них, возможно, мелькнуло одно на всех подозрение, будто контора Кука нагло их обманула, но раскусив, что цыплята (та-ба-ка!) куда лучше кентуккских чикенов, они уже ощупывают любопытными глазами зал: танцы, скачущая вразнобой карусель, надо же – удивляются, – люди как люди!
И вот – заметили Киру, опять удивились, азартно присоединились к танцующим; сногсшибательный взрыв дружеской кутерьмы, музыкальный галоп лучших представителей – Соснин осмотрелся – мирно сосуществующих ядерных стран: весёлые конвульсии смешавшего твист с фокстротом, чарльстоном, липси и ча-ча-ча рок-энд-ролла.
И если Кира, обладая отменным вкусом, как полагал Соснин, могла бы привлечь восхищённо-завистливое внимание самой изысканной публики, то здесь – на это намекал сигаретный чад фимиама – она, наверное, принималась за утончённую (всё от Шанель? От Балансиага?) повелительницу гуманоидов, случайно залетевшую на земной ужин.
Итак, помолившись в жёлтом круге торшера над тиснёным коленкором и мелованной бумагой меню, заказала через странноватого спутника нежнейшую, всю в слезах сёмгу (в тон её костюма), котлету де-воляй и привычно сломала конус салфетки, пригубила бокал Цинандали, оценила – заказал ещё бутылку, с собой, – закурила и… быстро пролетал вечер.
Кружились головы, пьянила радостная кабала летнего города. Солнце, казалось и вовсе не заходило, а хотелось всё больше света, простора, воздуха. Не задумываясь, они чудесно раздвигали границы персональных пространств, сливали эти условные пространства в одно, общее, включали в него всё, что могли пожелать глаза, обстраивали его зыбкими зеркальными фасадами и вскоре, благо фантазии, вкуса и любви к видимостям им было не занимать, незаметно для себя кардинально реконструировали свой удлинённый, упирающийся в тополиный забор эдем.
Они словно находились внутри кокетливо охватившего их курдонёра с восхитительным, обсаженным чайными розами партерным садиком, в центре коего, оживляя в памяти гармонию и разностилье Альгамбры, в чаше-раковине журчал и, ниспадая по пологому каскаду, мелодично булькал прелестный фонтан.
Оставляя на какое-то время зеркалистый фасад за спиной, они, зная, что никто им не помешает, удобно располагались на травяном, с цветочным бордюром ковре у журчащей воды, трогали пахучие лепестки – как хороши, как свежи были розы. Как нежно лепетали струи и капли (не могут кран починить?), какой чудесной (анти?) акустикой обладал их воображённый курдонёр на двоих, не пускавший внутрь никаких (кроме ласкающих слух) звуков, и только иногда с вонючим дымком тарахтел под окном плоский, как остеклённая камбала, прогулочный катер, экскурсовод гавкал что-то вдохновенное в микрофон про нависающие, безвольно падающие в воду и ломающиеся мутной волной ансамбли, но из-за клочьев смрадного дымка не было видно, что распивают на корме безразличные к архитектурному великолепию ухари со своими невпопад прыскающими подружками. А Соснин и Кира пили лёгкое Цинандали, предусмотрительно извлечённое накануне из ресторанного погреба, и, глядя на Кирино чуть скуластое, разрумянившееся лицо, вписанное в идеальный овал, он, облизывая кисловатые губы, почему-то думал о любимых им с детства розовой пастиле и зефире – воздушных, чуть суховатых от присыпки сахарной пудры созданиях, поражающих, когда их раскусываешь, телесной вязкостью, окутанной едва уловимым, таинственным ароматом. И в элегические парения врывалась примитивная чувственность, неловко защищаясь от шипов роз, которые почти касались их лиц, падали на ковровый газон, и он, пользуясь своими правами, прокрадывался в тесноте объятий… и она… а откуда-то сверху – за компанию с занявшим выгодную позицию на шкафу целлулоидным пупсом – бесстыдную вакханалию, наверное, подсматривали цементные амуры, те, что прогуливались по карнизу напротив, над другим берегом Мойки; пухлявые проказники, заливаясь смехом, даже делали со своего карниза пи-пи, имитируя поливку цветов или случайно прошелестевший тёплый короткий дождик, не подозревая, что легко объяснимое любопытство младенчества может непоправимо извратить их взрослую интимную жизнь.
О проекте
О подписке