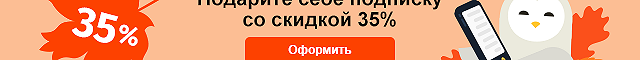
3. Лина
Поискав на ощупь, нажал на фигурную, в виде морского конька, бронзовую ручку. Тяжёлая дубовая, тёмная, почти чёрная дверь легко подалась, выпустила их в сырую, тоже почти чёрную ночь. Три ступеньки вниз, повернули, пошли к площади.
Возвращались с какого-то вечера, кажется, был бездарный капустник, потом выпивка, танцы, как всегда, обычная чехарда. Одно только было иначе: танцуя с ней (назову её Лина), он, столько раз её видевший, удивился (ого!) живому взгляду чёрных глаз, значительности, внутренней силе (надо же?) подвижного лица, сейчас – в разговоре, смехе – вспыхнувшего, а обычно – до незаметности обесцвеченного или густо напудренного, когда на выбеленной мелом, как маска мима, коже выделяются только глаза и яркие, зачем-то густо красившиеся ею губы.
Наново удивлялся: высокий рост, прямые, ниже плеч, волосы, лёгкость движений, джинсовый сине-голубой костюм, расшитый по кокетке курточки диковинными цветочками. Вот бы волосы постричь покороче, и пожалуйста, – мальчишеский стиль, идеальная современная актриса-травести, порывистый акселерант, да-да, и своя изюминка – чуть вздёрнутый кончик носа: потянул кверху (слегка утрируя) завлекательные отверстия подрагивающих чутких ноздрей.
Резвая и лёгкая, готовая ещё быстрее припустить в танце молодая лошадка.
И опять несколько (сколько?) лет знакомства, хотя и шапочного, и как с Кирой когда-то было – давно ведь знал, а вдруг заметил среди танцующих, извлёк из тряской толчеи, потом решил проводить, позвал, подал пальто, осторожно прикрыл, пропустив её вперёд, тяжёлую дверь – пошли.
Повторение пройденного?
Зачем?
Посмотрим, там видно будет, пока всё славно, непринуждённо, его стихия – начинать с середины.
Гриппозная осень… или простудная слякотная весна? Время года уже не вспомнить, ночь погасила последние окна, только в эркере набоковского особняка почему-то одиноко горел свет. Пересекли пустынную площадь, у «Астории» – приготовился? Оглянулся? – тусклым золотом блеснул из темноты купол.
Буквальное повторение пройденного – шли по Гороховой, зачем-то свернули на Мойку у изливавшей холодное электричество швейной фабрики, дальше, мимо уснувшего дома и входной двери, окна, за которым уже никого не было – дом расселили, Кира переехала в панельный пригород… Дальше и словно по колдовскому кругу – опять в сторону Исаакиевской площади, по безлюдной набережной, обходя стволы голых тополей; тихо, сыро; ещё несколько шагов… У спуска к смолистой, в грязных пятнах крошившегося льда воде остановились, привлёк её к себе, она с радостью ответила, прижалась, машинально бросила, чтобы освободить руку, на мокрые плиты сумку, обхватила за шею, без сил уже простонала что-то…
Потом откинула голову, отстранилась решительно, словно покончила навсегда с минутной слабостью.
– Пойдем, Илюша, поздно.
– …Знаешь, я, кажется, влюбилась, ну тебя к дьяволу, у меня муж, сын, не могу больше, отстань, ради бога, – смеясь, быстро говорила Лина, едва поспевая за ним по скользким, с перепадами уложенным гранитным плитам узкого, повторяющего изломы берега тротуара. Опять эта заспанная ломко-извилистая река, прорезающая парадную геометрию города, знакомый, автоматически задающий размер шагов ритм держащих чугунные звенья решётки гранитных блоков, такое же, как пять (шесть?) лет назад лето, плывёт, присыпав маслянистую воду, тополиный пух, или… Сумела всё-таки вырваться из Лериного окна тюлевая занавеска, перелетела, обогнув собор, площадь, крыши с ржавой жестью, опустилась, накрыла воду белёсой пеленой и беззвучно плывёт теперь рядом, только ниже? И в воздухе белые хлопья, Соснин чихает, насморк, сенная лихорадка, он и Лина торопливо идут по набережной, мимо швейной фабрики имени Володарского на углу Гороховой, у Красного моста – фабрики с большими, мертвенно светящимися день и ночь люминесцентными трубками окнами. Лето, да, он точно помнит – конец июня, горит, наверное, фабричный квартальный план, ярмарка ещё не погружённой в фургоны одежды на набережной, хотя примерочных кабин нет. Соснин и Лина пробираются между вешалками с готовой продукцией, и ветер расчёсывает пышные шевелюры тополей, сыпет перхоть (нафталин?) на драповые, суконные, кримпленовые плечи уродливых пиджаков и пальто, стиснутых, как в метро, собранных (по размерам) в металлические обоймы – скоро их погрузят в огромные оцинкованные фургоны с длинномерными фабричными вешалками. Но дальше – и побыстрее: мимо входной двери, окна с фрамугой, мимо возвышающегося над противоположным берегом сумрачного дома с амурами, цементные сдобные младенцы, надув обиженно губки-бутончики (подумаешь, оскорблённая невинность!), прикидываются, что незнакомы, отводят глазёнки, и тут же какой-то раскоряченный четырёхногий призрак их, его и Лины, парного отражения заскользил по раскалённо-красному, как у обваренного рака, боку частенько дремлющей здесь пожарной машины, легко впрыгнул в торчащее из кабины зеркальце и – моментальный снимок? – подарил им трогательный (склонённые головки, хоть вешай над ковриком) парный фотопортретик в красной лакированной рамке, в левый верхний угол которой неверной походкой гуськом удалялась семья тополей, и тут же, нырнув под широченный Синий мост, Мойка оставляет их на огромной площади.
Да, конный памятник, угол «Астории», собор.
Что за компас направлял эти обязательные прогулки? Мало ли других мест, думал, не прерывая беззаботной болтовни. Только что прошли мимо бывшего дома Киры на набережной, и опять эта громада собора, а слева, за углом собора, напротив западного портика – дом, где обитала Лера, окна её на последнем этаже; дальше, дальше по сторонам неправильного, со срезанной площадью вершиной любовно-топографического и изначально-гибельного, наверное, треугольника… Много лет минет, но, очутившись на площади, каждый раз, как околдованный, снова и снова будет смотреть вверх, на арочные окна последнего этажа: Лера, Лера…
Точно убийцу, на место преступления тянет, хотя в чём же он виноват?
Всё повторяется, возвращается на круги, успокаивая себя, философствовал, одна влюблённость, другая… куда денешься?
Но, походя уравнивая влюблённости свои, он ошибался.
Лина – не Кира и уж точно – не Лера.
И он стал другим, наконец, и время – другое тоже.
Начавшееся с продолжения начало – похоже; да-да, влюблённость, какая-то загодя щемящая радость, но затем – в каждом из трёх случаев – всё иначе.
Сейчас могло показаться даже, что влюблённость переходит в роман, но… роман, ещё не оформившись, ведь вскоре будет прикончен безутешными обстоятельствами; их, обстоятельства, персонифицировали, во-первых, муж и сын, во-вторых, вырисовывалась дальняя дорога, в которую фанатично засобиралась Лина.
Между тем влюблённость (переходя ли, не переходя в роман) длилась, то обретая второе и даже третье дыхание, то сникая, маята да и только: за нежданным взлётом (откуда бралась энергия?) следовал спад, и даже случались ссоры, и опять – примирения, путешествия. Не раз ждал своевременного, как он считал, конца – и неожиданно разгоралась новая, необъяснимо горячая близость начала со счастливыми (куда глядели глаза) прогулками и путешествиями, пусть и недолгими.
Возможно, горючим странного (так и не набравшего кондиций?) романа того была Линина цель, которая придавала остроту недоговорённостям (а вдруг и он?!), поддерживала, даже тогда, когда они молчали, ставшую вдруг модной тему легального, но безвозвратного преодоления железного занавеса.
Отъезд, эмиграция («дан приказ ему на Запад», – бодрились остряки) – популярное в те нудные годы помешательство в интеллигентских кругах, терявших сопротивляемость и историческое терпение; самообманное то помешательство называлось: «прожить ещё одну жизнь».
А пока длилась жизнь здешняя, «беспросветная», как однажды, когда и у неё лопнуло терпение, сказала Лина… В то лето, когда бродили по Мойке и огибали-пересекали площадь с собором, когда меняли конспиративные квартиры, влюблённость ли, роман с перепадами чувств и настроений вылились в довольно прочную (?), радостную, но ситуативно-прерывистую и потому лишённую взаимных обязательств и тягостных объяснений связь.
Всё по схеме? Выделившись из любви и отправив её на скудную пенсию воспоминаний, секс вопреки располагающему к неге уюту процедурного кабинета (индийские подушки на тахте, вьетнамские красно-зелёно-лиловые циновки у ложа, прочие модные дизайнерские штучки для декорирования телесных утех) вырождается в короткий (столько дел!) механико-гимнастический комплекс эмоциональной разрядки: приспустили штаны и юбки, чтобы получить укол наслаждения?
Грубоватая схема, разумеется, обобщенный эскиз ситуации, а цепочки порождаемых ею эпизодов подчас многое могли изменять, пускать события в непредсказуемом направлении, поворачивать, освещая саму ситуацию новым, хотя всегда каким-то неверным светом.
Казалось бы, должен был получиться развивающийся роман, однако они лишь отчасти жили его сюжетом: всё быстрее бежало время, приближая Лину к достижению её цели, и он нёсся вдогонку, приноравливался к обстоятельствам. И менялись настроения (ого! Сколько раз!), решения и оценки (ещё чаще), но и он, и она охраняли что-то своё, главное, то, что, к счастью (или несчастью?), у каждого пророчески записано в крови любовной алхимией предков, отлито в судьбе и от погоды или, даже от внешнеполитических обострений совсем не зависит.
Да, были и путешествия.
Собираясь выйти к чудесному (охристые штукатурные стены, багровый плющ, черепица на контрфорсах) дворику университета, брели переулками бывшего гетто. Пахло известью, раствором, штабелями лежали трубчатые леса; мрачные, облупившиеся дома реконструировались, перекрашивались, кое-где уже открывались лавочки с янтарём, ресторанчики, в пещерной глубине – камин, медвежьи шкуры, пар над никелированными краниками кофейной машины. Трагическое прошлое, оказывается, – превосходное, высокоэффективное удобрение, на пропитанной кровью почве вырастает не только бурьян, заведённо как-то думал Соснин, глядя на беспечную, подрумяненную, как иллюстрация к андерсеновской сказке, которая всегда себе на уме, весёленькую стену щипцовых фасадов, за которой, тогда ещё сумрачной и обшарпанной, надеялись укрыться обречённые со своими молитвенными покачиваниями и скудным, но навеки заданным религией бытом; не укрылись, не спаслись, и вот теперь внуки тех, обречённых, находят здесь, за подрумяненными фасадиками, счастливый приют… Ох-хо-хо, «можно ли писать стихи после Освенцима»?
Можно, ещё как можно, и стишки за милую душу кропают после Освенцима, и заодно кофе попивают с ликёром.
Салфетки из серого льна на огненно-красном отлакированном столе, дымящийся кофе в керамических чашках, в маленьких рюмках, горящих (на красном), как зелёные огоньки, мятный, вязкий ликёр…
Отложим, однако, прогулку по старому Вильнюсу. Толкнул стеклянную дверь кафе, захлопнул дверцу такси. Сомнения? Выбор? Вот чепуха, всё (всё?) ещё было впереди, и какая-то (поджидающая с дубинкою за углом?) новая жизнь лишь незаметно, но упрямо вызревала тогда…
Мысли спутывались, картинки наслаивались, но Соснин должен был бы вспомнить об этом накануне Лининого отлёта.
Вчера они попрощались.
Всё было увезено, снято со стен, раздарено, продано, брошено, запаковано, отвратительная гора одинаковых чемоданов высилась в углу голой комнаты, из стены над тёмным прямоугольником невыгоревших обоев одиноко торчал гвоздь – каплановская литография в одном из чемоданов, наверное.
Сидели, тесно сбившись в прокуренной кухне, кто-то принёс водку, пили из гранёных стаканов, запивали пивом, какой-то идиотский обряд: поминки, опередившие похороны? Плакать или смеяться?
И не мазохизм ли – смеха ради начали спьяна советские песни горланить: мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай…
Нет, не до смеха было.
Да и сейчас совсем не смешно.
Утекали последние минуты, все были будто под наркозом, трали-вали, опять попытались в фальшивую весёлость ухнуть, наперебой анекдоты припоминали: знаете? Рабинович в панике прибегает в КГБ и выпаливает: если к вам залетит жёлтый попугай, то имейте в виду, что я с его высказываниями решительно не согласен… Ещё какая-то безобидно жалкая бородатая антисоветчинка… Ох, надоело, но что теперь-то можно было поделать? Она улыбалась, но рассеянно и виновато как-то, словно не могла понять, каким образом очутилась в этой ободранной квартире Толстовского дома, где прожила много лет, а теперь не узнавала её. Конец, она (неподражаемая) мысленно уже там, в сияниях Свободы, за железным кордоном, только стоптанные домашние туфли осталось сменить. Зачем хныкать, улетает – и слава богу, добьётся своего: «проживёт новую жизнь».
Обнялись у двери, молча постояли, он только сказал, что завтра вечером ещё позвонит. Шаркая подошвами, спускался по лестнице, уносил её последнее, застрявшее в сетчатке глаз изображение; почувствовал, как воткнулась в спину парная дрель её прощального взгляда, но не обернулся – боялся превратиться в соляной столб?
Конец прекрасной эпохи, морщась от головной боли (накачался, дурак, ерша, вторые сутки башка трещит), горько усмехнулся следующим вечером Соснин. Как будто минуло наваждение, огонь погашен, но тлеет ещё.
Взял книжку в глянцевой тёмно-синей обложке, полистал и, решившись, проглотив соответствовавший настроению комок, направился к телефону. Она сняла трубку, показалось, обрадовалась; он стал читать:
Родиться бы сто лет назад
и сохнущей поверх перины
глазеть в окно и видеть сад,
кресты двуглавой Катарины;
стыдиться матери, икать
от наведённого лорнета,
тележку с рухлядью толкать
по жёлтым переулкам гетто…
……………………………
…войдя
в костёл, пустой об эту пору,
сядь на скамью и, погодя,
в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога:
– Прости меня.
…………………….
И перелистнул, внимая молчанию в трубке:
Время уходит в……… в дверь кафе,
провожаемое дребезгом блюдец, ножей и вилок,
и пространство, прищурившись, подшофе,
долго смотрит ему в затылок.
Потом помолчал (новообразовавшийся комок опять проглотил), прочёл мелко набранную внизу дату.
– Я всё помню, Илюша, – медленно, но ничего не глотая, сказала Лина, – и ту осень, конечно, тоже.
Трубка положена, всё позади: промыл с облегчением горло боржоми.
А тогда, выйдя из университетского дворика, нагулявшись, насмотревшись на покоряющую искренностью провинциальную краснокирпичную готику, нежное, смягчённое (неумелостью!) барокко, объяснял Лине (не без колкостей и острот) подоплёку культурных спекуляций на классицизме (поклонение совершенным пропорциям, строгость форм, прочая ахинея). Обоснования, говорил, всегда находятся, но только ампир мог прижиться во время недавней чумы – портики на простых комодах и ящиках как претензия на величие, да ещё властная грузность, осевое оцепенение схематизированной симметрии. Псевдоготика? Псевдобарокко? Не по зубам из-за многодельности, да и не та трактовка величия – какое там небо? Вильнюс, однако, избежал ампирной эпидемии, здесь вообще всё очень мило, трогательно (прелесть примитива?), неплоха и эклектика с её вульгарным, но щекочущим провинциальное самолюбие шиком. Ого! Вот и пришли, не исключено, что он уже здесь бывал, где ещё он мог видеть подобную живопись патокой – оголённых круглозадых пейзанок (глубокое удовлетворение в коровьих глазах), которые, забыв про обессилевших кавалеров и нехотя заигрывая с патлатыми пичужками, игриво посматривали на едоков с кое-где облупившегося плафона, что ж, идиллия постраспутства предполагала пир. Да, хотелось есть (ам-пир?), сидели вдвоём за столиком в ресторане той же гостиницы, где несколько лет назад останавливался он с Кирой, сидели у стены, обтянутой кроваво-красной (почти как в Лериной, с арочными окнами на Исаакиевский собор, комнате) искрящейся тканью, ели жареную курицу, шепелявый, с аккуратно приклеенными усиками официант (славный плут) заботливо наполнял фужеры болгарским вином, их лица нравились, им улыбались, хотя времена изменились и за красивые глаза в гостиницу (даже в такой клоповник) уже не пускали.
У Лины пылали щёки, пухловатые, чуть вывернутые губы дрожали, словно от нетерпения, большие, навыкате, глаза затягивал шальной блеск; и вдруг – недоверчиво-жёсткий, с прищуром, взгляд и беззащитная улыбка, переходящая в оскал: прыть и осанка гончей?
Возбуждённая, как и на том давнем, с капустником и танцами, вечере, обозначившем начало влюблённости, она, жадно отпивая вино, раскрывала карты: уехать, здесь прошла юность, здесь друзья, ты (он?), но – здесь гиблое место, здесь никогда ничего к лучшему не изменится, нельзя плыть по течению, надо управлять своею судьбой, надо уехать, чтобы жить, а не дожидаться жизни… Ох, в разных модификациях сия душещипательно-оправдательная ария в те годы исполнялась многими отъезжантами.
Зрачки наркотически расширились – о, как рвалась она в полёт! – раздувая ноздри, курила, пепел с тлеющего кончика сигареты осыпался на чёрный пуловер, да и вино, наверное, тоже подействовало: развязался язык.
Соснина, однако, за кордон если и тянуло, то для того лишь, чтобы посмотреть мир. Хорошо бы, конечно, посмотреть, но… насовсем?
Нет, жизнь № 2 (периодически он даже забывал мечту свою о посещении избранных городов) тогда его ничуть не манила, скорее отпугивала.
Короче, он посочувствовал порыву, постарался даже вникнуть в её мотивы, а когда в блестящих металлических плошках принесли молочные шарики (крем-брюле не было) пломбира, понял: она добьётся.
О проекте
О подписке