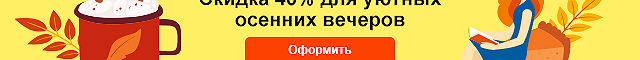
– Да? – сказал он, не узнавая гостя. И тут же просиял: – Эге, кто к нам приехал! Кто к нам приехал! Федя Дежкин! Кандидат наук Федор Иванович Дежкин! Здравствуй, дружок… – Он мягко посмотрел на жену, и она вышла. – Садись, Феденька. Можешь не рассказывать, все знаю. Приехал немножко потрясти вейсманистов-морганистов. Правильно. Наконец-то Кассиан Дамианович взялся и за нас… У нас тут говорят, что ты у него правая рука. Ему бы еще и левую такую…
«Тогда бы вейсманисты-морганисты запищали», – хотел с обидой закончить его мысль Федор Иванович. Но ничего не сказал, только, чуть покраснев, уставился на академика. Тот не уступил – закинувшись в кресле назад, стал как-то сверху рассматривать своего бывшего ученика черными, как маслины, мягко горящими глазами. У него было очень худое, с зеленоватыми ямами на щеках, почти коричневое лицо и коротко подстриженные серые усы.
– Время, Феденька, время, – сказал он. – Все-таки семь лет. За семь лет, говорят, все вещества в организме проходят обмен. Замещаются…
– Количественно. – возразил Федор Иванович. – Но не качественно.
Академик, видно, принял эти слова за намек на его вейсманистско-морганистское прошлое – дескать, горбатого могила исправит. Шире раскрыл готовые к драке глаза.
– Если вы действительно считали меня когда-то добрым человеком, если не ошибались, – Федор Иванович сказал это со страстью, – то таким я и уйду в могилу. Человека нельзя сделать ни плохим, ни хорошим.
– А как же исправляют…
– Светозар Алексеевич, не исправляют, а обуздывают. Усмиряют. Для кого существует аппарат насилия? Для тех, кого нельзя исправить.
– Да… – академик вскочил с кресла и быстро прошелся по комнате. Еще раз посмотрел на Федора Ивановича: – Узнаю тебя, Федя. Это ты.
Вошла женщина. Они встретились глазами – академик и она, и Светозар Алексеевич, встав, склонив седины, сделал приглашающее движение:
– Чудеса! Самовар уже вскипел. Давай к столу.
Поднимаясь, Федор Иванович нечаянно взглянул на столик с книгами. «Т. Морган» уже был прикрыт мичуринским журналом «Агробиология», где академик Рядно был одним из самых главных сотрудников.
Открывая стеклянную дверь, академик обнял Федора Ивановича.
– В бога еще не уверовал?
– В бога нет. Но кое-что открыл. Для себя. Ключ вроде как открыл. Чтоб руководить своими поступками и разбираться в поступках других.
– Ого!.. Очень интересно, – Светозар Алексеевич взглянул на него сбоку. – Давай-ка садись, бери пример с Андрюши Посошкова.
За белым квадратным столом, красиво и по правилам накрытым для четырех человек, уже сидел белоголовый мальчик в холщовом матросском костюмчике и водил ложечкой в тарелке с оранжевой смесью: там был накрошен хлеб и залит жидким яйцом. Увидев гостя, мальчик встал и поздоровался, прямо взглянув ему в глаза.
– Вот видишь, здесь севрюга, – сказал академик, когда все сели. – Ты давай, давай, для тебя поставлено. Вот здесь – холодная телятина, прекрасно зажарена. Заметь – желе. Из нее натекло. А моя материя, – тут он снял тарелку с поставленной около него стеклянной банки, там был творог. – Моя материя вступила в стадию решающей борьбы за сохранение своего уровня организации…
– Но вы же молодой! Вы же тянете на сорок пять лет!
– Тяну? Может быть, может быть… В школе мне объяснили закон сохранения энергии. И я всю жизнь старался эту энергию экономно расходовать…
«Не из соображений ли экономии ты уклонился от борьбы?» – подумал Федор Иванович.
– А как же ваши кроссы? – спросил он.
– Экономия – это уход от ненужных, бессмысленных драк, – сказал академик, как бы прочитав мысль гостя. – А кроссы – это борьба с энтропией. Лень, сон, покой – все это способствует энтропии, распаду, нашему переходу в пыль. Чтобы противостоять, приходится расходовать энергию! Так оно и получается – между двумя огнями. С одной стороны, экономия, с другой – расход. Ты давай, обязательно вместе с куском захватывай побольше желе. Вот этот кусочек возьми – прекрасная вещь! – вдруг сказал он и горящими глазами проследил, чтобы был взят этот кусочек и чтобы на него был положен дрожащий ломтик желе. – Ну, как?
– М-м-м! – благодарно промычал Федор Иванович с набитым ртом.
– А мне уже нельзя… Бери еще кусок. Бери, бери, – сказал академик, кладя себе творог. – Да ты, видимо, прав, – он прямо и с вопросом взглянул в глаза. – Доброго человека не заставишь быть плохим.
– Страх наказания и нравственное чувство – разные вещи, – сказал Федор Иванович, разрезая телятину и совсем не замечая, с каким особенным вниманием вдруг стал его слушать академик. – Страх – это область физиологии. А трусость – область нравственности…
На это академик вопросительно промычал сквозь творог. И еще выразительнее посмотрел.
– Трусость – это не просто страх. Это страх, удерживающий от благородного, доброго поступка. Трусость отличается от страха. Мотоциклист не боится разбиться насмерть. Носится как угорелый. А на собрании проголосовать, как требует совесть, – рука не подымается. Труслив. Хороший человек преодолевает в себе чувство страха, физиологию. Но если угроза очень страшная, такое может быть… Хороший человек, и тот может дрогнуть. Это уже будет не трусость, а катастрофа. Но это не изменит его нравственное лицо. Человек останется тем, кем он был до своей погибели. И будет искать искупления… Я, конечно, имею в виду сверхугрозу, превосходящую наши силы.
– Я не согласна с вами, – сказала вдруг блондинка. – Все равно это будет трусость. И никакого оправдания…
– Не согласны? – спокойно сказал Федор Иванович, задумчиво взглянув на нее. – А если у вас кто-нибудь отберет вашего ребенка…
– Верно, верно, Федя! Молодец! – с необъяснимой энергией одобрил его академик, которого эти вещи сильно занимали. Он не почувствовал, что свою адвокатскую тираду Федор Иванович произнес специально для него и для его жены. Сам же «адвокат» смотрел на дело иначе. Он не простил бы себе такой катастрофы.
– Серьезные вещи говоришь, Федя, – сказал Светозар Алексеевич. – Я думаю так: у человека, задумавшего кончить жизнь самоубийством, должен исчезнуть физиологический, как ты говоришь, страх. И трусость, подчиняющая его всякой палке, всякому кнуту. Но нравственное чувство будет продолжать повелевать. Он получает свободу от всего, кроме своей совести. И будет стремиться искупить вину. Меня, Федя, часто заставляет задуматься фигура Гамлета. Когда он узнал, что ранен отравленной шпагой, с него как бы свалились все оковы, связывающие доброго человека на этой земле. Он перестал быть подданным короля, стал гражданином Вселенной. Из него мгновенно испарилось все, что зависит от внешнего бытия…
Тут пришла очередь Федора Ивановича прислушаться. Для него это был новый аргумент, и он всей душой потянулся к интересной беседе. Но блондинка со звоном бросила нож на тарелку.
– Перестань! Даже страшно становится, когда он о Гамлете своем начинает. Как будто с жизнью прощается. Неужели нельзя о чем-нибудь еще!
– Да-а… – Светозар Алексеевич затуманился и притих. – У… у такого человека очень интересное правовое положение.
– Разрешите вам налить чаю, – сердито сказала блондинка Федору Ивановичу.
– Простите меня, пожалуйста, как вас зовут?
– Ольга Сергеевна.
Волосы у нее были прямые и белые, как строганая сосновая доска, и две ее толстые короткие косы по-прежнему пружинисто торчали врозь, как две плетеных булки. Она подала Федору Ивановичу чашку белой рукой с большим фиолетовым камнем на пальце. Принимая от нее чай, Федор Иванович почувствовал странную тишину в комнате и взглянул на академика. Светозар Алексеевич спал, уронив усталую голову. Слюна стеклянной струйкой скатилась на грудь, скользнула по выцветшему трико. Ольга Сергеевна поднесла палец к губам.
Через полминуты старик открыл глаза и некоторое время сидел так, приходя в себя. Вдруг совсем очнулся и пристально посмотрел на Федора Ивановича, на жену – заметили ли. Нет, никто не заметил. Гость положил себе еще кусок телятины. Ольга Сергеевна заглядывала в маленький электрический самовар. Мальчик пил свой чай, опустив глаза.
Успокоившись, старик положил за худую щеку ложку творогу.
– Ключ! – сказал он, шевеля усами, и задумчиво вытаращился на ложку. – Интересные вещи, Федя, говоришь. Ты что, уже проверил действие?
– Нет еще. Но в руке, похоже, держу.
– Да-а… Ты у нас сможешь его проверить. – Во взгляде академика опять появилась изучающая, пристальность. Он немного боялся Федора Ивановича, и его клонило все к тому же – к цели приезда его ученика. И Ольга Сергеевна поглядывала на гостя с заметной тревогой. – Тебе, Федя, в твоем нынешнем положении этот ключ будет просто необходим, я так думаю, – сказал академик, помолчав. – Только не появится у тебя излишняя уверенность в правоте? Ключ ведь можно применять и при неправильной основе. В основе ты уверен?
– Мы с вами, Светозар Алексеевич, что вы, что я, одинаково в ней, в нашей научной основе, уверены, – краснея, сказал Федор Иванович. – Уж если учитель так уверен, куда деваться его прилежному воспитаннику…
Академик закинулся на стуле, как он уже делал один раз, посмотрел на гостя как бы сверху.
– Ты, Федя, твердой рукой подвел меня к вопросу, на который надо отвечать стоя. Тем более, что вы – член комиссии. – Он не заметил, как перешел с гостем на «вы». – Вот, слушайте: я полностью осознал вред, который могут причинить науке мои…
«Заблуждения или трусливые колебания?» – Федор Иванович ясно прочитал этот вопрос в быстром и вызывающем взгляде Ольги Сергеевны, брошенном на мужа.
– …Заблуждения – твердо отчеканил Светозар Алексеевич. – И я честно, не раз заявлял об этом с трибуны.
Попробуй, поговори с чутким человеком. Никто не смог бы осторожнее коснуться больного места в душе академика, чем это было сделано. Притом сам ведь полез вперед со своей болячкой. Но, оказывается, и так касаться нельзя. Тем более, при даме. Федор Иванович побагровел.
– А что я говорил! – мягко сказал он. – Я же говорил! Хорошего человека… Даже в экстремальных условиях… Сделать плохим нельзя. Нельзя!
Они, конечно, тут же и помирились, и оба, затуманившись, обсудили феноменальную способность человека объясняться с себе подобными на тончайшем уровне.
– Конечно, другого такого ювелира, как я или как ты, не было и не будет. Ни во времени, ни в пространстве, – сказал Светозар Алексеевич. – Чудеса!
Спросить академика о Троллейбусе Федор Иванович остерегся. Тихий голос шепнул ему издалека: помолчи об этом.
Часа через два Федор Иванович быстро шел по одной из аллей парка, направляясь домой, то есть к одному из розовых зданий института, где ждала его комната в квартире для приезжих. Вдруг его внимание остановила редкостная фигура – осанистый и вельможный бородач, стоявший на перекрестке аллей. Чесучовые серебристо-желтые брюки, чесучовый балахончик с рукавами до локтей, алюминиевые туфли на женских каблуках, кремовая фуражечка с капитанской кокардой. Фигура у него была довольно статная, но с чрезмерным прогибом в талии – прогиб этот повторял линию тяжелого отвислого живота. Бородач за чем-то с интересом следил.
– Иннокентий! – крикнул Федор Иванович. Он узнал местного поэта Кондакова.
Поэт показал счастливую, похожую на подсолнух рожу.
– Ты? Какими судьбами к нам?
И они пошли вместе по аллее, оживленно и громко беседуя. Федор Иванович вскоре заметил, что громкая речь поэта – притворство, что их разговор совсем Кондакова не интересует, что он взволнован чем-то. Потом поэт сделал рукой знак: «Минуточку!» – и, заработав локтями, виляя, ускорил шаг. Вот, в чем дело – впереди шла молодая женщина. Поэт что-то негромко сказал ей. Она не ответила. Он ускорил шаг и еще что-то сказал. Она ответила с небрежным полуповоротом головы. Поэт догнал ее и забежал с одной стороны и с другой. Бедняжка споткнулась, он тут же поддержал ее под локоток. Быстро переменил шаг и засеменил с нею в ногу, отставив зад. В конце аллеи женщина остановилась и долго говорила ему что-то педагогическое. Потом пошла дальше, а он остался стоять, поникший, – правда, ненадолго. Ликующий подсолнух его физиономии опять развернулся навстречу Федору Ивановичу.
– На охоту вышел? – спросил тот.
– Как ты догадался? – поэт показал все свои кукурузные зубы.
– Так у тебя же, наверно, есть…
– Про запас. Природа не терпит остановок. Послушай, как тебе понравится это, – он замычал, вспоминая какие-то строки, и, загоревшись, стал декламировать, успевая поглядывать и по сторонам:
Вот какой я – патлатый,
Синь в глазах да вода,
На рубахе заплаты,
Но зато – борода!
Пусть не вышел в герои
В малом деле своем, —
Душу тонко настрою,
Как радист на прием.
И ворвется в сознанье,
И навек покорит
Шум и звон созиданья,
Обновления ритм.
Басом тянут заводы
Новый утренний гимн,
Великаны выходят
Из рабочих глубин.
Все серьезны и строги
И известно про них,
Что в фундамент эпохи
Ими вложен гранит.
А в полях, где сторицей
Возвращается вклад,
Где ветвистой пшеницы
Наливается злак,
Та же слышится поступь,
Тот же шаг узнаю,
И огнем беспокойство
Входит в душу мою:
Где же мой чудо-молот?
Где алмазный мой плуг,
Чтобы слава, как сполох,
Разлетелась вокруг?
И, задумавшись остро,
Думой лоб бороздя,
Выплываю на остров,
Слышу голос вождя.
Он спокоен и властен,
Он – мечта и расчет,
Ненашедшему счастья
Озаренье несет:
Нет, не только гигантам
Класть основу для стен!
Нет людей без талантов,
И понять надо всем,
Что и винтик безвестный
В нужном деле велик,
Что и тихая песня
Глубь сердец шевелит.
– Ну, и как? – поэт взял Федора Ивановича под руку.
Тот знал, что надо говорить поэтам об их стихах.
– Здорово, Кеша. Особенно это: «На рубахе заплаты, но зато – борода». Твой портрет!
– Ты что, остришь?
– Да нет, ничего ты не понял. Ведь ты же не одежду описываешь, а характер, характер!
– Ну ладно, с этой поправкой принимаю. Еще что-нибудь скажи.
– Ты имеешь в виду речь Сталина, где он про маленьких людей? Очень здорово. Очень хорошо: «великаны выходят из рабочих глубин».
– Молодец. Еще скажи. Хорошо критикуешь.
– «Алмазный плуг» – ты это, по-моему, у Клюева стибрил. У него есть такое: «плуг алмазный стерегут»…
– Еще что? – Кондаков отпустил локоть Федора Ивановича.
– Еще про ветвистую пшеницу. Пишешь, о чем не знаешь. Про нее рано ты сказал. Злак еще не наливается. Она ведь не пошла у нашего академика. Могут тебе на это указать…
– Самый худший порок в человеке – зависть, – сказал Кондаков.
– При чем же здесь…
– Федя, не надо. Не надо завидовать. Стихи уже засланы в набор.
Поэт, не прощаясь, резко повернулся и зашагал по аллее, и вид его говорил, что оскорбление может быть смыто только кровью.
Кондаков умел оставлять в собеседнике неопределенный тоскливый балласт. Все еще чувствуя в душе эту тоску, Федор Иванович вошел в комнату, которая в этом городе была отведена под жилье для приезжей комиссии.
О проекте
О подписке