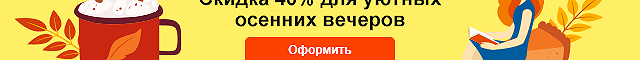
Глава I
Отношение власти к 1-й Государственной думе
Исключительный интерес 1-й Думы заключается в том, что именно тогда либеральная общественность для достижения своих целей получила такое выигрышное положение, которого у нее не бывало еще никогда. Что могли раньше делать «либеральные деятели»? Стараться проводить свои взгляды в рамках даже не закона, а усмотрения губернаторов, высказываться в печати со всеми условностями эзоповского языка, зависеть во всех начинаниях от капризов и местных, и центральных властей. Это не было вовсе бесплодной, но во всяком случае тяжелой, гнетущей работой. Позднее, в эпоху «Освободительного Движения», они получили новые возможности; но все-таки в чем они фактически заключались? Собирать совещания, которые по-прежнему иногда разгонялись полицией, подавать министрам и Государю адреса, за которые получали и выговоры, как за черниговский адрес; составлять серьезные проекты переустройства России и направлять их под сукно Совета министров; да еще, наконец, говорить громкие речи на многолюдных банкетах. Словом, в отличие от прежнего вынужденного молчания они получили право шуметь, пока им не скажут: довольно! Естественно, что в этих условиях либералы стали искать соглашения с революционными партиями, у которых в распоряжении были более сильные и страшные средства, хотя бы очень обоюдоострые и с понятием правового порядка несовместимые. Так, либеральная общественность была вынуждена идти с революцией и без этого, вероятно, и «Освободительного Движения» не было бы.
Теперь же все изменилось. Запретная «конституция» стала реальностью; можно было быть ею недовольным, настаивать на ее изменениях; но прежнего Самодержавия более не было. Либерализм не должен был прятаться и надевать чужие одежды; он стал открытой всероссийской организацией, которая ни взглядов, ни деятельности своей не должна была более скрывать. А главное – представители либерального общества для влияния на ход государственных дел не должны были искать каких-то обходных путей; они стали частью государственной власти. Они властвовали в высшем законодательном установлении – Думе. Такой обстановки для деятельности либерализма в России еще никто не видал.
Но как ни могущественны были по сравнению с прошлым новые пути для либеральной деятельности, самая задача оставалась очень сложна. Превратить громадную Самодержавную Россию в конституционную монархию – на бумаге было легко; для этого было достаточно Манифеста. Провести это превращение в жизнь было бесконечно труднее. Опасность грозила двоякая. Государственный аппарат издавна и прочно был построен и воспитан на Самодержавии, на подчинении всех не закону, а усмотрению и воле начальства. В государственном аппарате были и по необходимости оставались люди, которые иных порядков понимать не умели. Надо было много усилий и стараний, чтобы их переделать, не разрушив на первых же порах всего аппарата. Но еще большая трудность была в том, что весь народ, само интеллигентное общество было воспитано на том же Самодержавии и, хотя с ним боролось, усвоило главные его недостатки. У него тоже не было уважения к закону и праву; свою победу над старым порядком оно поняло так, что оно само стало теперь так же выше закона, как раньше было Самодержавие; беспрекословно подчиняясь раньше «воле» Монарха, оно думало теперь, что непосредственной «воле народа» ничто не может противиться.
Задачей момента было вовсе не заменить одну самодержавную «волю» другой, а ввести господство «права» и, по живописному выражению С.Е. Крыжановского, перебросить для этого мост между старой и новой Россией, между властью и народом. Эта историческая задача выпала на долю либеральной, интеллигентной общественности, которая едва ли не одна понимала в России, каких правовых принципов требует конституция и с какими предубеждениями и инстинктами против нее и сверху, и снизу придется бороться. Кадеты – как самая интеллигентная партия, впитавшая в себе теорию «права», могла бы быть этим мостом и объединить на этой задаче все здоровые элементы и власти, и общества. Именно это было ее ответственным и почетным призванием, достойным надежд, которые на нее возлагались.
Трудности этой задачи кадеты, однако, не поняли. Они сочли себя не мостом между народом и старой властью, а самым народом. Свои успехи на выборах, восторги перед ними толпы, фимиамы, которые курила им своя же пресса, они приняли за выраж'ение «воли народа», как наш Государь видел доверие и покорность народа в приветственных криках: ура! Потому задача, как они ее понимали, показалась им очень простой; за ними, по их мнению, стоял весь народ, а против них только уже сознавшая свое бессилие власть. Странно видеть теперь легкомыслие, с которым они пошли на пролом, точно так же, как когда в 1914 году военные партии толкнули страны на европейскую бойню. Винавер рассказывает («Недавнее», с. 81), как в вечер 27 апреля у него собрались «упоенные счастьем» несколько депутатов для решения неотложных вопросов. Он же в биографии Кулишера[13] вспоминает «буйные дни восторга в первый период Февральской революции». Упоение счастьем, восторги! Я понимаю, что можно было прийти в восторг от Манифеста, в котором была объявлена конституция, когда впервые победил теоретический принцип. Но когда депутаты сошлись для великой и трудной черной работы, когда речь шла о судьбе самой России, когда опасность грозила со всех сторон и все могло рухнуть от неосторожного шага, тогда «упоение счастьем» – совсем неподходящее настроение. Кадеты и принялись за работу «с легким сердцем», с решимостью «не уступать». В результате через 2 месяца выигрышное положение наших первоизбранников превратилось в полное и заслуженное поражение.
Любопытно, что в этом поражении либеральная пресса и общественность винили не Думу. Ни одной Думе не было после ее неудачи посвящено столько восторженных воспоминаний. Какие только названия ей не давали! «Дума народных надежд», «Дума народного гнева». Один нестеснявшийся автор предложил даже назвать ее «Думой великих дел». На Выборгском процессе О.Я. Пергамент закончил защитительную речь такой тирадой: «Венок их славы так пышен, что даже незаслуженное страдание не вплетет в него лишнего листика». На последующие Думы перводумцы смотрели с высокомерным презрением. Винавер насмешливо сравнивал свою Думу «полную вдохновенного полета великой эпохи, блеснувшую мужеством и талантами» с «серенькой и безглавой» Думой 2-го созыва. День 1-й Думы делали праздником русской общественности. Критиковать 1-ю Думу значило стать ренегатом.
Теперь позволительно быть справедливее. Незаслуженная канонизация 1-й Думы была естественна; именно так общество заступается за побежденных и мстит победителям. За неудачу Думы стали «обвинять» только ее победителей. Нм стали приписывать предвзятый умысел взорвать конституцию и мешать Думе работать.
Такая позиция с их стороны обвинителям казалась естественной. Ведь не могло же в самом деле Самодержавие помириться с ограничением своей власти? При первой возможности оно, конечно, должно было начать подготовлять «реставрацию». Многие выводили даже из этого поучение, будто введение конституции непременно должно сопровождаться сменой если не династии, то, по крайней мере, монарха. Конституция будто бы погибла от того, что этого вовремя не было сделано.
В крушении России «выгораживать» власть бесполезно. Ее вина несомненна. Но не должно из-за этого закрывать глаза на грехи и нашей общественности. За 11 лет конституции (1906–1917) были периоды, когда была виновата именно власть, так же как она больше всех была виновата за отдаленное прошлое. Это не мешает признать, что в те моменты, когда общественность побеждала, виноватой в конечном своей неудаче оказывалась уже она. О самом красочном из этих моментов я и вспоминаю.
Верна ли легенда, будто Государь с самого начала хотел уничтожить ту конституцию, которую он обнародовал, будто он с 1-й Думой «играл»? В 1905 году на одном собрании в присутствии Стэда Родичев говорил про отношение общественности к булытинской Думе. Она на нее так смотрела. «Мы идем в Государственную думу, как в засаду, приготовленную нам нашим врагом», – сказал он. Были ли такие слова оправданы и по отношению к конституционной, законодательной Думе?
A priori[14] предполагать это было можно. Всякому самодержцу, конечно, трудно примириться с умалением своей власти. А личное прошлое Государя, благоговение перед памятью и политикой Александра III, его первый политический шаг, – «бессмысленные мечтания», – упорная борьба с «Освободительным Движением», неприязнь к слову «конституция», загадочные фразы вроде «мое самодержавие осталось, как встарь», которую он сказал депутации правых уже после Манифеста, пристрастие к черносотенцам, сторонникам «реставрации», наконец, замысел отменить конституцию в 1917 году накануне революционного взрыва – позволяли это мнение защищать. Но это лишь одна сторона. Есть и другая.
Государь не сам хотел ввести конституцию, боролся против нее и дал ее против желания. По натуре он реформатором не был. Все это правда. Но зато он умел уступать, даже более, чем нужно. Так, в 1917 году он от престола отрекся, не исчерпав всех средств сопротивления; а отрекшись, со своим отречением примирился и никаких попыток вернуть себе трон он не делал. Он не сделался центром и вдохновителем реставрационных интриг. Надзор за ним не был достаточно строг, чтобы этому помешать. Его заговорщической деятельности одни так же напрасно боялись, как другие на нее напрасно рассчитывали. К сменившей его новой власти Государь был совершенно лоялен. Это доказывают его дневники. То же можно было наблюдать и в 1905 году. Самодержавие было для него непосильной тяжестью; но он считал своей обязанностью его охранять. Когда же обстоятельства так сложились, что защита Самодержавия показалась вредна для России, когда те, кому он верил, советовали ему уступить, он уступил. А уступив, со своим новым положением он примирился полнее многих других. Не он первый напал на конституцию, а новоизбранная Дума. Не он повел с ней борьбу, а она, не доверяя ему, сразу начала грозить ему революцией. Если между Государем и либерализмом возобновилась война, то в этой войне не он был агрессором; он лишь стал защищаться. А те, кто сами вызвали эту войну, потом стали говорить: «Мы были правы» – и гордиться своей «дальновидностью». Быть таким пророком вовсе не трудно.
Либеральный канон, вопреки очевидности, это все отрицал. Он утверждал, что Государь не признавал конституции. Но доказательства его не сильны. Прежде всего придирались к «слову». Почему Государь после Манифеста продолжал называть себя «Самодержцем»? Почему он ни разу не произнес слова «конституция» и своему правительству этого не позволял? Когда в ноябре 1905 года Милюков давал Витте «ультимативный» совет: «произнести слово «конституция», Витте ответил: «Я о конституции говорить не могу потому, что царь этого не хочет»[15]. Но ведь несмотря на несомненную ненависть к «слову», конституция была все-таки Государем сначала обещана, а через полгода и действительно «октроирована». Зачем же кадетам было настаивать на «произнесении слова», когда существо конституции они получили и оно у них не оспаривалось? Разве это настаивание было достойно «реальных политиков»?[16]
Оправдание Государя в его предвзятом нерасположении к слову можно найти в аналогичном и гораздо менее понятном отношении самой «либеральной общественности» к другому слову, уже для нее ненавистному, т. е. к слову «Самодержавие». Она требовала, чтобы этого слова более не употреблялось. Но почему? «Основные законы» его сохранили, как исторический титул, лишив одиозного содержания; более того: сами кадеты заявили печатно, что оно не противоречит понятию «конституция», и потому решили подписать без оговорок депутатское обещание в верности «Самодержцу». И все-таки этого ими самими подписанного и законами «обезвреженного» титула они не допускали. Когда в 3-й Думе в заголовке адреса к Государю было предложено поместить этот титул, кадеты восстали и в этом увлекли за собой октябристов. Что это слово могло изменить? А ведь непризнание законного титула за Монархом всегда считается оскорбительным. Сколько было испорчено крови из-за «Императора Абиссинии»! И адрес 3-й Думы из-за этого самочинного «отказа в титуле» восстановил Государя против нее.
Надо признать, что этого термина «конституция» и вообще не понимали в самом окружении Государя. В феврале 1917 года, когда революция уже началась, великий князь Павел Александрович ходил убеждать Государя дать наконец «конституцию». В дни «отречения» Императрица опасалась, чтобы Государя по его слабости не заставили подписать «конституцию». Что же разумели под ней в это время?
Но допустим, что там, при дворе, были слишком невежественны, чтобы понимать истинный смысл иностранных юридических терминов. Но лучше ли обстояло у нас в нашей интеллигентской элите? Термин «конституция» в строгом смысле слова термин совершенно формальный; он означает совокупность законов, определяющих государственный строй, независимо от их содержания. Потому и у Сталина есть сейчас конституция. Но не будем стоять на формальном определении и признаем, что будет исторически верно, что конституция – противоположность абсолютизму, и что «конституция» имеется там, где права Монарха ограничены представительством. Невольно вспоминаю, что именно этим признаком барон А.Ф. Мейендорф в Думе защищал существование особой финляндской конституции от ее непризнавания П.А. Столыпиным. И с этой точки зрения «Основные законы 1906 года» были, несомненно, конституцией. Их смысл не менялся от того, что их могли иногда нарушать при попустительстве органов власти, как это, к сожалению, происходит и в очень развитых государствах. Это было уже злоупотреблением власти, ибо сами «Основные законы» были конституцией и «неограниченной» власти монарха более не допускали. И тем не менее наша общественность сочла возможным утверждать, что эти законы – не конституция, и применять к ним, не к практическому их осуществлению, а к ним самим, презрительную кличку «лжеконституция». Милюков систематически и умышленно смешивал «конституцию» с «парламентаризмом», хотя он и знал, что существуют и «непарламентарные» конституции и что если права Милюкова в них «ограничены», то объем их может быть очень широк. Что же мудреного, что Государь не хотел употреблять иностранного и неопределенного слова, которого народ вовсе не понимал и которым было не трудно играть?
Потому-то терминологические аргументы были недостаточны для того, чтобы решить, признавал ли Государь «конституцией» «Основные законы». Дать ответ на этот вопрос можно бы только анализом самих законов. Но к моему удивлению, Милюков в статье «Последних новостей» 16 июля 1939 года, посвященной книге Перса, приводит в качестве аргумента за непризнание Государем конституции – акт 3 июня 1906 года. Опечатка не имеет, конечно, значения, хотя она символична. Я не буду отрицать, что позднее, когда либерализм свою игру проиграл и на политической авансцене появились опять заклятые враги конституции, Государь постепенно перешел на их сторону. На это доказательство немало, не исключая и задуманного перед самой революцией переворота. Но это отдаленные последствия остроумной тактики 1-й Думы. В 1906 же году Государь с неудовольствием возразил, когда Шипов ему намекнул на возможность не только отмены конституционного строя, но даже изменения избирательного закона. Об этом я говорю дальше в XII главе. Но главное, самый акт 3 июня 1907 года, как его ни осуждать, отнюдь не доказывал, что Государь не признавал конституции. Сам Государь в Манифесте и Столыпин в ответной на декларацию речи оправдывали его не законными правами «Самодержца», а «необходимостью» этого акта. «Что может помешать Государю спасать вверенную ему Богом державу!» – воскликнул Столыпин, и эта фраза его pendant[17] к знаменитой апострофе Мирабо – je jure que vous avez sauve la chose publique[18], которой Мирабо 19 апреля 1790 года оправдывал превышение власти Национальным собранием. Кто же будет иметь лицемерие отрицать, что государственные перевороты, нарушение формального права, иногда необходимы, ибо, как говорил Бисмарк, «жизнь государства остановиться не может»? Такие перевороты могут происходить и сверху, и снизу, в либеральном и реакционном смысле, смотря по тому, кто сильнее. Иногда они принимают форму coup d’Etat[19], иногда революции, и юрист может требовать одного, чтобы не выдавали этого переворота за право, за нормальный порядок. И ссылка на 3 июня, как на доказательство непризнания конституции, со стороны Милюкова тем удивительнее, что в 3-й Думе в прениях по адресу он сам справедливо и разумно доказывал, что 3 июня произошел «не юридический прецедент, а только некоторая фактическая победа силы над правом». Но потому 3 июня и не могло доказывать непризнавания конституции. Надо для этого искать других аргументов.
О проекте
О подписке