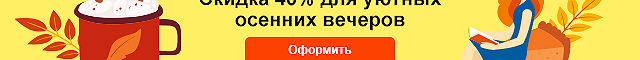
Часть I. На привязи
Альрих. После жизни
Берлин
9 декабря 1944 года, утро
Штернберг пошатнулся, с трудом удержался на ногах. Служащий за столом выдернул из растрёпанной стопки какую-то бумагу и вдруг уставился на него с живым интересом. Без умолку трещавший телефон за стеной наконец заткнулся. Сквозь слабость и дурноту Штернберг почувствовал то, что должен был ощутить с самого начала: от чиновника не несло смертью. От стоящих по бокам солдат – да. От сидящего за столом – нет.
– Сейчас вы получите свои вещи. Распишитесь вот здесь, – очень буднично сказал чиновник. – Во дворе вас ждёт машина.
Мироздание, сжавшееся до нескольких десятков шагов – от порога этого кабинета до стены бункера во дворе, от тени последней надежды до краткого приказа офицера и залпа расстрельной команды, – вдруг раздалось до бесконечности, придавив и оглушив.
«Вы получите свои вещи».
Конвоиры, уверенные, что ведут заключённого на расстрел, были удивлены гораздо больше. Сам Штернберг не испытал ничего, кроме внезапного необоримого желания сесть там же, где стоял, прямо на пол. Разумеется, он себе этого не позволил – сделал вид, что воспринимает всё происходящее как должное. Очень старался, чтобы руки не тряслись. До него едва доходил смысл того, что требовалось подписать. Что-то о досрочном освобождении. Бросилась в глаза дата; значит, больше месяца прошло с тех пор, как… Господи, больше месяца.
Чиновник принял от него бумагу, где изломанная, вздыбившаяся вертикальными линиями подпись стояла среди мелких печатных букв как осаждённая крепость в окружении вражеских полчищ. Поднял взгляд:
– Запомните этот день, господин фон Штернберг. Видать, кто-то очень крепко молится за вас.
Быть может, так оно и было. Наверняка. Многие выходили из подвалов гестапо – если выходили – в куда более плачевном состоянии. В полутёмной, пропитанной склизкими запахами комнате Штернбергу вернули его вещи, изъятые при аресте, и позволили побриться в кафельном закутке – там в его распоряжении оказались тронутые ржавчиной ножницы и станок с гадостным тупым лезвием и ноздреватыми окаменелостями из засохшей мыльной пены. Бритва почти не брала волоса и только мучила и кровянила кожу. Казалось, заключение должно было если не вытравить, то оглушить врождённую гипертрофированную брезгливость, но на деле только истерзало и разбередило её – как эта чёртова бритва скребла кожу до кровавой росы. Чужая щетина в бесхозном станке, прошедшем через множество рук, задубевшая от пота и крови рубаха, штаны в засохшей блевотине после того допроса с применением тонких технологий, как их понимали в гестапо, – всё это было остро-оскорбительно, невообразимо, несносно. И ещё запах зверья.
Вообще-то ему определённо очень повезло. Зубы на месте, нос не сломан. Почки не отбиты, половые органы целы. Пальцы не изувечены, ногти не выдернуты. Правда, в один из первых дней заключения ему уродливо обкорнали машинкой для стрижки его роскошную золотистую шевелюру – главным образом для того, чтобы унизить, – и он стал похож на узника концлагеря. Подозрение на перелом или трещину ребра – слишком навязчиво болит правый бок; любому встречному Штернберг поставил бы диагноз с ходу, едва взглянув, но себя он не видел. И ещё рубцы на спине – в самом начале, по прибытии, после ареста в Рабенхорсте, здешние труженики, ещё не понимая, с кем связались, повели его, раненого и истекающего кровью, в камеру на четыре стола, с жаровнями и тазами, в которых мокли кожаные плётки, а пятое «посадочное место», как шутили специалисты своего дела, находилось у стены – верёвки, продетые через кольца в потолке, и вот на этих-то верёвках его растянули, невзирая на вполне однозначные предупреждения, и даже успели пару раз хлестнуть с оттяжкой, прежде чем в той камере вспыхнуло всё, что могло гореть, включая энтузиаста с плёткой. Пирокинез дался Штернбергу тяжело: он потерял сознание и сам едва не задохнулся в дыму затеянного им пожара. И вот тогда ему в вену впрыснули какой-то одурманивающей дряни и избили в первый раз. Точно, неспешно, вдумчиво и так, что он потом от боли едва мог вдохнуть. Били даже не столько за пожар – просто чтобы указать ему его место. Напомнить: он теперь никто и ничто. А ещё с вечера того же дня ему начали колоть наркотики и снотворное.
Да, вот что самое отвратительное – его с месяц накачивали наркотиками, каждый день. И теперь тело требовало зелья, и страшно было подумать, что начнётся через сутки, через двое.
Рана, с которой его доставили в тюрьму гестапо, невзирая на всё, зажила – бинты ему меняли регулярно и вообще не упорствовали в намерении изувечить. Вероятнее всего, таково было указание сверху, и потому с допроса Штернберг ковылял на своих ногах, в то время как из соседнего кабинета выволакивали сплошной сгусток боли, за которым тянулся вонючий след. Даже здесь, в гестапо, Штернберг пользовался некоторыми, с позволения сказать, привилегиями, и палачам запрещалось практиковать на нём утончённые приёмы вроде засовывания горящих тряпок между пальцами ног, опиливания зубов или прижигания мошонки паяльной лампой. Его не торопились списать на свалку: мог ещё пригодиться. Мог понадобиться – и, видимо, понадобился срочно. Альрих фон Штернберг, глава отдела тайных наук в научно-исследовательском обществе «Аненербе» – «Наследии предков». Оберштурмбаннфюрер[2] СС в свои двадцать четыре с половиной года. Выскочка и наглец для сослуживцев. Выродок для семьи. Сенситив от Бога. Предатель; хотя нет, этот ярлык на него здесь не сумели навесить при всех стараниях, он последовательно гнул свою линию, даже когда у него язык заплетался от той отравы, что струилась в его крови, а грубоматериальный и Тонкий мир смешивались в его воспалённом восприятии в бурлящее варево. Он же в конце концов выполнил приказ фюрера? Выполнил… Отменил операцию «Зонненштайн», как от него и требовали. Но де-факто – предатель. Со всех сторон предатель…
Он перебирал свои вещи так, как перебирают вещи давным-давно умершего незнакомца. Чёрный китель с Железным крестом и лентой Креста за военные заслуги, которыми когда-то его наградили – нет, не его… Оберштурмбаннфюрера. Шинель, ещё хранившая слабый запах сажи от костра, в котором оберштурмбаннфюрер сжёг своё будущее. «Парабеллум» – сейчас разряженный, – из которого оберштурмбаннфюрер застрелился. Оберштурмбаннфюрер так долго вытаптывал в себе человека, так планомерно и методично его уничтожал – но эсэсовец мёртв, похоронен у подножия камней Зонненштайна, и кто теперь дрожащими руками морфиниста натягивает на себя его одежду?
Подтяжки, ремень, портупея – всё спутано в клубок мятой, заскорузлой чёрной кожи. Среди его вещей не нашлось ни золотых наручных часов, ни перстней с драгоценными камнями, которые с таким небрежным шиком и легчайшим налётом вульгарности любил носить оберштурмбаннфюрер. Ничего удивительного: мертвецов обворовывают. Осталось эсэсовское серебряное кольцо – но у предателя эсэсовский перстень отобрали бы в первую очередь, так что Штернберг понял намёк: как бы там ни было, но ты нам нужен, парень, ты по-прежнему один из нас. Сохранился и амулет – золотой круг-солнце с лучами-молниями на золотой же цепи – эту штуку просто побоялись брать, решили, видно, что в ней заключена какая-нибудь «чёрная магия», хотя амулет был всего-навсего пижонской безделушкой.
В кармане кителя обнаружились очки. Те самые, в которых он в последний раз смотрел на скалу Зонненштайна. После ему целый месяц приходилось довольствоваться расплывчатой эрзац-картиной мира – очки гестаповцы у него отобрали ещё на первом допросе.
И вот теперь резкость всего окружающего ударила по глазам – нелепым глазам, для которых близорукость стала ещё не самой большой бедой. Глаза у Штернберга были разного цвета: левый голубой, а правый зелёный впрожелть – и, главное, правый сильно косил. Косящего глаза словно бы нет, мозг воспринимает лишь то, что видит здоровый глаз, чтобы изображение не двоилось, – и потому Штернберг никогда не знал в полной мере, что значит протяжённость, глубина, объём, ему сложнее было определять расстояние до предметов. Косоглазие у него было всегда, сколько он себя помнил. Особенно досадный порок при громадном росте, сухой поджарости сильного широкоплечего тела и отточенной многими поколениями аристократической тонкости черт. Брак, грубая ошибка природы; ущербные – отбросы нации, таких не принимают в СС. Но ради него в своё время сделали исключение.
С шершавым жжением по подбородку и у кадыка, с нездоровой, приступами накатывающей зевотой, Штернберг выбрался из крашенных тёмной масляной краской гестаповских катакомб во двор здания на Принц-Альбрехтштрассе. Охранники отконвоировали его до самых дверей серого «Мерседеса» со служебными номерами. Сыпал снег. На тёмной стене бункера во дворе Штернберг прочёл многочисленные смерти и торопливо отвёл взгляд. Если бы его сейчас вывели на расстрел под охраной десятка человек, он, трясущийся от слабости, ничего не сумел бы сделать, как ни тешил себя мыслью, что смог бы сразить их всех энергетическим ударом или превратить в живые факелы.
Но в машине всего двое. Куда его повезут? Не важно. Надо бежать. Здесь ничего уже нет, здесь всё прах, ещё пока сохраняющий видимость людей и зданий. Весь этот город – приговорённый к смерти в ожидании расстрела, как, впрочем, и вся Германия. Останься Штернберг тогда один у Зонненштайна – давно бы лежал в земле Тюрингенского леса, где-нибудь под старой сосной, под тёплым ковром из опавшей хвои, уложенный кем-нибудь из местных крестьян в наспех вырытую могилу для безымянного самоубийцы, и это был бы непозволительно спокойный конец для того, кто предал свою родину.
От окончательного ничто его тогда отделяло лишь мгновение. Он лежал на спине, в снегу, и чувствовал нёбом холод мушки своего «парабеллума». Но прежде чем успел вдавить большим пальцем спусковой крючок, пистолет вырвали у него из рук. Только ствол клацнул по передним зубам. А когда он открыл зажмуренные глаза, то увидел над собой последнего из своих солдат. Хайнц – так звали того парня. И что-то такое этот парень сказал…
«Каждого человека хоть кто-нибудь да ждёт».
Есть причина, по которой ему нельзя умирать.
Штернберг сощурился, поправил очки. Двое в машине. Если он сосредоточится, то, возможно, на каком-нибудь перекрёстке, когда они остановятся, на несколько минут сумеет лишить сознания обоих и успеет скрыться в лабиринте развалин.
Расталкивая коленями полы незастёгнутой шинели, чувствуя, что от него разит псиной, Штернберг забрался на заднее сиденье. Там его ждал некто в штатском: смуглый, совсем небольшой, остроплечий, со странной головой обтекаемой формы, напоминавшей голову насекомого (и смазанные бриолином волосы блестели как хитиновый панцирь, усугубляя впечатление), с худыми и словно бы сверх меры многосуставчатыми руками, резво выстукивавшими нечто вроде морзянки на крышке плоского портфеля. Насекомый тип обратил на Штернберга тёмные, навыкате, глаза. Сенситив. Не самый сильный, но достаточно натасканный для того, чтобы быть непроницаемым для телепатов вроде Штернберга.
– Шрамм. Купер.
Штернберг не сразу понял, что эти слова вовсе не часть какого-то неведомого ему пароля, а так зовут набриолиненного и того, кто сидит за рулём. Водитель, белокурый викинг с плакатов, прославляющих нордическое здоровье, покосился на Штернберга через зеркало заднего вида и заодно продемонстрировал отражение своей грушевидной физиономии, лишённой малейшей тени какого-либо выражения. В отличие от чернявого, сознание этого экземпляра – Купера – неплохо читалось. Невзирая на довольно кретинский вид, дураком он, к сожалению, не был. А вот бриолиновый недомерок – Штернберг нутром чуял – был к тому же ещё и опасен.
– С сегодняшнего дня господам из гестапо угодно сопровождать меня во всех поездках?
– Думаю, в этом не будет необходимости. – Тип по фамилии Шрамм вежливо улыбнулся, показав жёлтые, но идеально ровные зубы. – У меня к вам есть дело. Точнее, два дела. Первое: господин Мюллер – вы ведь хорошо знакомы с господином Мюллером? – поручил мне передать вам кое-что. – Шрамм полез в портфель.
О да, с некоторых пор Штернберг был даже слишком хорошо знаком с господином Мюллером. С группенфюрером СС и генерал-лейтенантом полиции Генрихом Мюллером, «Мюллером-гестапо». Мюллер был его следователем. Мюллер всякий раз допрашивал его лично, и эти допросы – Штернберг явственно ощущал – стали для начальника тайной полиции своего рода спортивным вызовом и ревностно оберегаемой от чужих посягательств страстью. Мюллер приказывал колоть ему, помимо прочей дряни, какую-то «сыворотку», от которой подследственного должно было пробить на правду. Штернбергу эта отрава путала сознание, и он плохо помнил, что нёс под воздействием препарата, но в одном мог поклясться: у него хватило самообладания не признать себя виновным в том, что ему навязывали. Однако Штернберг чувствовал: Мюллер сумел выловить в его бреде кое-что другое, весьма для себя полезное; что именно – скорее всего, ещё предстояло узнать, и при одной мысли об этом в подрёберье растекался тошнотный холод.
Шрамм достал из портфеля тетрадь в жёсткой чёрной обложке под тиснёную кожу: с виду – небольшая книга, около сотни крепких листов. Штернбергу показалось, будто время прорвалось брешью в прошлое. Воздействие наркотиков? Он всё ещё бредит? Этого предмета просто не могло существовать. Штернберг сам сжёг эту тетрадь, он отлично помнил, как бросил её в камин за день до операции «Зонненштайн»… Углы тетради и впрямь были немного обуглены. Штернберг уставился на полосатый жёлто-чёрный галстук набриолиненного и вдруг понял, на кого так похож этот смуглый гестаповец: на шершня.
– Сувенир, – пояснил Шрамм. – От господина Мюллера.
Первым делом Штернберг принялся вспоминать, есть ли в этой тетради – в его тайном дневнике, который был уничтожен, но каким-то образом выплыл из небытия, – что-то, способное его скомпрометировать. Как последний идиот. Именно такого мучительного замешательства от него и ждали: чернявый был явно доволен его ошарашенным видом. Действительно, в записках заключалось много такого, что запросто могло обернуться против него, однако самое уязвимое и драгоценное Штернберг не доверил даже дневнику. А Мюллеру, значит, дневник больше не нужен; не случилось ли так, что куда более интересные вещи он услышал от самого Штернберга, доведённого до полубессознательного состояния наркотиками, побоями и различными «сыворотками»?
Но, ради всего святого, откуда они взяли эту тетрадь?!
– Выходит, Мюллер счёл мои записи недостаточно занимательными? – холодно поинтересовался Штернберг.
– Напротив, он надеется, что этот предмет послужит вам напоминанием. Гестапо хоть из-под земли достанет что угодно и кого угодно, господин фон Штернберг. Следствие по вашему делу возобновят после окончания войны – в том случае, если вы не справитесь с вашей задачей. Господин Мюллер желает, чтобы вы всегда помнили об этом и работали хорошо.
Штернберг криво усмехнулся: ничего оригинального, следовало ожидать.
– И что вменяется мне в задачу?
– Об этом вы узнаете не от меня. Моя роль совсем скромная: передать вам кое-какие вещи. И предупредить.
Несмотря на некоторую полировку, в мягком стелющемся произношении Шрамма, в его манере глотать окончания оставалось слишком много баварского. В точности как у Мюллера. Едва ли это было случайностью: Штернбергу когда-то доводилось слышать, что шеф гестапо перетащил в столицу своих старых знакомых из мюнхенской полиции. Штернберг сам вырос в Мюнхене, однако баварский диалект так и остался для него чужим: язык перешёл к нему в наследство от предков, прибалтийских баронов, – очень книжный, с пристрастием к сложным предложениям и с жёсткой артикуляцией, словно бы застывший в янтаре, что порой блестит на солнце в клочьях водорослей, выброшенных штормом на балтийский берег.
– Вы уже предупредили, вполне доходчиво, – желчно сказал Штернберг. «Бежать. И пусть попробуют достанут». – А теперь давайте сюда эту штуку.
Шрамм вручил ему тетрадь. Штернберг взял её левой рукой, на мгновение прикрыл глаза, ловя в сознании смутные тени прошлых событий, отпечатавшихся на злосчастном дневнике. Призрачное кино задом наперёд. Мюллер, опять Мюллер, какой-то обыск, деревня… Униформа погибшего ординарца Штернберга, которую гестаповцы буквально вывернули наизнанку. Тетрадь в кармане. Шрамм, разумеется знакомый с психометрией, глядел с насмешливым пониманием: ожидал, что Штернберг первым делом кинется читать предмет.
– Что, собственно, вам ещё от меня надо? – с тяжёлой досадой спросил Штернберг.
– Я понимаю, судьба ваших записок вам сейчас интереснее, – сказал Шрамм. – Но вы лучше поглядите в окно. Внимательно.
За окном вот уже несколько минут мелькали полузнакомые улицы вперемешку с развалинами. В Берлине Штернберг бывал редко и знал его неважно, а бомбёжки и вовсе превратили город в сновидение наяву, в грань между обычной, понятной жизнью и потусторонним, страшным миром, в нечто, что выглядело бы декорацией, не будь оно таким до дрожи настоящим.
О проекте
О подписке

