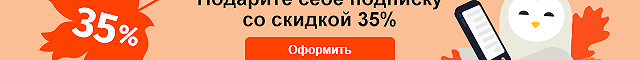
И, кормя их медовыми мятыми ноннеттами, вместо московских медовых пряничков, в память о них, уминая в ноннетте ноготь, и тоже прихлебывая чай, Елизавета Марковна думала, что вот эти вот ноннетты, чуть горьковатые, имбирём, апельсиновой коркой и мёдом благоухающие, Майя ведь запомнит на всю жизнь, и потом, когда ее, Елизаветы Марковны, вдруг не станет, Майка когда-нибудь, вдруг, среди горестей жизни, допивая чай, улыбнется – чувствуя ее, Елизаветы Марковны, нечаянное и незваное, с райского подоконника, краткое, на чай, без спросу, ровно на миг и сразу обратно, прибытие.
– No-nnettes! Это же двойное отрицание: нет-нет! Пирожное: «Нет, нет»! – хихикая, так же хватко и быстро, как до этого тягал сладости, на секунду обнимал со своего стула Майку за талию Борис – с таким выражением, словно утверждает собственность, – и тут же отдергивал руку.
Узнать профессию внезапного внучатого зятя возможности не оказалось никакой: Борис с жеманными смешками отвечал, что «по жизни дает советы разным людям», а все тактичные попытки Елизаветы Марковны узнать, кому же конкретно и какие советы он дает, утопали в буре Борисовых каламбурчиков.
А Майка умиленно (словно бы гладила морщинистого шарпея) почесывала сзади мясистые складки бритого глобуса Бориса, на бело-мраморной карте которого явственно просматривались мраморно-голубые полуостровки – очертания сбритой растительности – и внятные контуры ранней плеши, аннексировавшей просторы от затылка аж до самого лба и разливающейся с обеих сторон от лба над ушами в залысины.
– Жестянка с горохом! Это же перформанс! Это же арт-находка! – горланил с хохотками, весь на стуле ходя ходуном от кокетства и гастрономических эмоций, Борис, демонстративно слизывая крошки с губ и восторженно-льстиво таращась. – А острой перьевой ручки у Вас с собой в сумочке, в тот момент, на митинге, случайно, не было, Елизавета Марковна? Вы же, как работник литературы, могли в буквальном смысле приравнять к штыку перо! – уже подвсхлипывал он.
А Елизавета Марковна, несколько изумленно рассматривая гримасничающее лицо Бориса – да и всё коротенькое, плотное, вихляюще свинченное, как-то все время быстро дергающееся и суетящееся тельце странного этого, действительно как будто какого-то застывшего в развитии, даже не толстоватого, а какого-то слишком уж коренастого ребенка (сразу же после детства вдруг досрочно состарившегося и облысевшего), – его непропорционально большую, в ноль обритую голову, его чересчур растянутые в длину, но довольно узкие семитские черно-карие глаза – непрестанно лукаво и как бы самолюбующеся щурящиеся и ухмыляющиеся, его нехорошую мясистую переносицу, его пухлый, словно расплющенный рот, его маленькие пальчики, все время что-то хватающие… его электрическую рубаху гейского какого-то покроя – с треугольным на лысой груди вырезом чуть не до пупа… его бритую тыкву… в общем бритый нервический колобок на тонких ножках в червячного цвета остроносых туфлях, – грешным делом думала: «ну в конце концов, это же Майке с ним жить, а не мне… И потом – ну что-то ведь она в нем нашла – значит, скрытые таланты какие-то…»
Уже к часу ночи только Елизавете Марковне занемоглось: выйти бы на воздух подышать, чуть-чуть тишины, пару минут исцеляющего одиночества, – да детей не хочется расстраивать болезнями… Вдруг нашелся предлог: не выброшенный пакетик с мусором из ведерка, ну зачем же до утра, нет вы не найдете куда, а они рано утром забирают, я быстро туда и обратно…
Быстро спустившись по кружащей мягкой лестнице, Елизавета Марковна вышла во внутренний дворик: звезд не было, а вместо звезд с каждой из четырех сторон на разных этажах флигелей здания светились по два-три запозднившихся высоких окна, закрытых раскладными четырехстворчатыми в белый крашенными деревянными ставнями persiennes с продольными щелями, и казалось, что каждое из этих окон – это тончайший лист развернутой старинной газеты, которую читают поднеся к свече, и свет от свечи пробивает насквозь, выпукло высвечивая четыре столбика строк, набранных древним кеглем, сколь внятным, столь и нечитаемым.
Елизавета Марковна быстро перешла двор, отдала несомую дань запрятанному в противоположном крыле здания пластиковому баку и, когда уже выходила из-под козырька, услышала в гулкой кубикулковой акустике внутреннего дворика громкий голос Бориса, с кубическим эхом:
– Колодец! У! У! А от бабули-то попахивает немножко! Надо бы ей нанять… Как их…? Кого они тут нанимают? А! Вспомнил! Филиппинку!
Взглянув вверх, увидев рожицы и Майки, и Бориса, которые высунулись, раскрыв окно, и глазели на противоположные окна, – из яркой кухни, в темноте, не различая ее фигурку в глубине двора, – паталогическая чистюля Елизавета Марковна беззлобно и беззвучно рассмеялась, выставила ладошку шорой перед ртом, дыхнула, поморщилась от аромата чеснока и весело вошла в свой подъезд.
– Шикарненько у тебя тут! – бойко говорила ей на следующее утро Майка, когда Борис ушел в душ, а Елизавета Марковна помогала Майке прибирать раскиданные из их чемоданов кругом по спальне вещи (отдала им спальню, а сама, ворочаясь и боясь упасть, проспала на узкой в кабинетике кушетке, чуть коротковатой ей, так что в ногах пришлось положить на перильца подушку и задирать лодыжки на нее, чтоб не крючиться, – Борис уж точно уместился бы там лучше). – Шикарненькое у тебя бюро там инкрустированное, в кабинете! Ручки у бюро витые какие красивые на ящичках! Это что ж они, медные, что ли?! Дык, Маркуш, если б ты эту свою квартиру продала и купила вместо какую-нибудь простенькую на окраине… Или лучше даже под Парижем! А вырученные деньги бы в банк положила, ты б, знаешь, бы, как королева жить могла!
– Иди, я тебе кое-что покажу! – не слушая ее, не вслушиваясь, вернее: полусознательно будто не замечая рифов в Майкиной речи, взняв паруса, ловя иные ветра, и чуждые ранящие рифы обходя на виражах, вела ее за руку к окну Елизавета Марковна. – Ну? Готова к представлению? – и двумя руками распахнула занавес тяжелых занавесок.
Два чуда Елизавета Марковна приметила еще накануне их приезда: прямо под окном ее спальни незаконно (для конца февраля) распустившиеся два верхних цветка на высокой магнолии, как-то вдруг глупо доверившиеся внезапной волне тепла в воздухе, пригревшиеся, старинных домов между, как в парнике. (Это ведь я надышала, и сосед в доме напротив! – с улыбкой думала Елизавета Марковна). Две гигантские магнолийные чаши – фарфорово-матово-белые внутри и пунцово-пурпурные снаружи (неравномерно мазнули кармином кое-где по лепесткам).
– Гляди: кустодиев! – тихо сияла Елизавета Марковна, распахнув перед Майкой окно. – К чаю! Одна чаша тебе, другая – мне!
– Да, цветочки, – до жути испугавшим Елизавету Марковну, ледяным каким-то, ничего не видящим и не чувствующим мертвым голосом произнесла Майка, продолжая озабоченно в левой руке вертеть мелкие какие-то бумажки. – Маркуш, подожди… Борюсик! Борюсик! – ринулась Майка вдруг в прихожую, а потом к ванной комнате, попробовала торкнуться в дверь ванной, но та оказалась заперта Борисом изнутри. – Борюсик! – начала жалобно скрестись в дверь Майка. – Ты в курсе, что мы деньги за такс-фри за те брюки, которые тебе в Цюрихе в Китоне укорачивали, прощёлкали?! Штамп-то мы не поставили на чек! Всё-о! – (Борис что-то бодро булькал в ответ из-за двери). – Чего? Чего? Борюсик? Я не слышу! За какую правую штанину?! Борюсик, ну что ты дурачишься! Я серьезно!
Конечно было жалко, что приехали они в самое невзрачное время: когда через час, выйдя все вместе на прогулку, они огибали дом Елизаветы Марковны – и какой дом! шкатульчатый, весь как будто кондитерский, со вкусной лепниной, блёкло-чайно-молочно-кофейный, пятиэтажный, вытянутый флигелями на весь квартал словно фортеция, со скругленными, как фаберже, крышами, с прозревшей и во все мытые глаза изумленно на небо глазеющей жестью чердаков, с фресками и мавританскими узорами на боку одного из флигелей, с хулиганской асимметрией прорезанных в узорах стен боковых окошек, с уверенной, увесистой, разновеликой, разноформенной, но равно щедрой громоздкостью фронтальных окон, с тончайшей вязью витых балкончиков, – Елизавета Марковна с щемящим чувством оглядывала на фасаде несрезанные засохшие ростки девичьего винограда, с третьего этажа, и узор вьющихся необрезанных стволов плетистих роз (роскоши! летом наискосок покрывавших собой половину фасада!), – и виноград и розы настолько срослись с домом, по летней привычке крепко-накрепко обнимая фасад, что сейчас, в зимней свой ипостаси, казались просто живописной разветвленной сетью бурых трещин на фасаде здания, морщинами дома, – и лишь вечнозеленые лозы ромбических гербиков плюща расцвечивали изгородь темным изумрудом, – и Елизавета Марковна будто бы унывала, что похвастаться дому сейчас особо нечем. Впрочем, несколько сокровищ рядышком же, в паре шагов, незамедлительно нашлись в пробуждающемся уже парке Монсо: пригоршня подснежников и, среди прошлогодних платановых палых листьев, – крокусы: фиолетовые, ярко-желтые, белые и те, другие, востроносые, яркоглазые, игравшие в салочки, и заполнившие собой целую полянку.
– А вот угадайте: какое событие раньше произошло – вот это вот молоденькое деревце кизила ярко-желтыми цветами цвести начало – или на бульваре Курсэль за забором вот в том доме напротив желтые, ровно кизилу в тон, volet roulant на окна повесили, как желтые бровки? – заговорщецки загадывала шарады Елизавета Марковна, выведя гостей к северу парка, к ослепительно-желтым фонтанам кизиловых соцветий на тоненьком молоденьком всего пару лет назад посаженном деревце, – которые рифмовались аж дважды: первый раз в позолоте верхушек близкого забора парка, а второй – в желтых рулончиках раскрутных внешних штор на фасаде противоположного здания за забором, – и сразу солнце сверкало тройным отражением – вопреки бессолнечной мокрой муторной февральской реальности. – Ну? Кто угадает? Кто кому изначально подражал? Кизил шторками – или шторки кизилу?
Елизавета Марковна, у которой отношения с каждым деревцем в парке были почти семейные, расшифровывая гостям, как переводчик, черные иероглифы лип по кромке парка на фоне палевых эклеров домов, изъясняя гигантский анонимный безлистый каштан, с ветвями ярко-малахитовыми от мха, – и самой собой, своей собственной мимикой, своей собственной красочной жестикуляцией, богатством своего голоса и чувства восполняя изъяны внешней реальности, внешние визуальные несовпадения и сезонные несовершенства парка, за миг зиждя небывалой красоты и живости картины в воздухе, и даже объясняя, как вот здесь весной будет пылить мокрая ныне дорожка (уф! Каашмар! особенно когда по ней бегуны бегают!), а вон там в жару будут в обед смешно лежать на травке офисные работники, как в лежачем ресторане, уминая притащенный с собой экономичный ланч, – и как вот здесь! и вот здесь! и вот здесь тоже! – очень скоро, через пару недель – да нет! – буквально через несколько дней уже! – всё будет в цвету! – чувствовала себя немножко либо чудотворцем, либо шарлатаном (в зависимости от степени веры слушателей в неизбежность наступления весны).
Зять заметно нервничал (в их русскоязычном путеводителе парка Монсо не значилось) и вскоре потребовал Тюильри (напоследок небрежно и тихо, с опасливой беглостью невежды, спросив у Елизаветы Марковны, проходя мимо обломков колонн у пруда, «настоящие ли они», – и Елизавета Марковна всё опять не могла понять, о чём он).
Презренного Тюильри, как и всех парижских туристических троп, Елизавета Марковна чуралась как холеры (да и вообще убеждена была, что краше ее райончика в Париже ничего не найти) и, сославшись на безобидный артрит, дезертировала. И снова на кухне звучали взрывы и дымился спасительный занавес из жженых шин, и штурмовали баррикады вооруженные уже боевыми патронами силовики; и снайперы как в дурном гламурном сафари отстреливали беззащитных смельчаков, которые решались под прикрытием фанерных, самодельных, насквозь простреливаемых щитов, перебежками, прячась за деревьями и снова выбегая под пули, добегать до раненных пулями друзей, пытаясь спасти их, вынести в безопасность, а в результате тут же пулями снайперов насмерть прошивало и тех и других. Кровь. Везде кровь. Невозможно, невозможно, невозможно… Счет жертв перевалил уже за сотню. К Киеву стягивались войска. И понятно уже было, что вечером, или ночью, или завтра, подлая марионеточная власть зальет Майдан кровью уже тысяч людей, уничтожит всех, физически сотрет сопротивление с лица земли. Невозможно… Нет надежды… В Михайловском монастыре уже не только лазарет для раненных майдановцев, но даже и морг во дворе на морозе. Кровь на полу древней церкви, прямо перед иконами, где монахи разрешили врачам-волонтерам открыть операционную и оперировать раненных майдановцев, пытаясь спасти их жизнь, прямо перед алтарем… Да, да: так же когда-то в Польше, в начале восьмидесятых прошлого века, во время военного положения именно церкви раскрывали двери перед уничтожаемыми сторонниками «Солидарности», прятали их от преступных властей, силовиков и спецслужб… В Киеве в больницы никто не обращается – потому что из больниц раненных майдановцев выкрадывают спецслужбы и титушки, пытают и добивают. Невозможно… Невозможно… Непереносимо видеть, что такое может происходить в двадцать первом веке… Невозможно… Невозможно… Ничего не изменилось! Нет надежды… И только наивный священник, отпевающий погибших посреди Майдана, сквозь слёзы говорит майдановцам: «У нас нет оружия – и в этом наша слабость. Но в этом и наша сила – потому что сила Христова совершается в немощном мира! Христос будет за нас и обязательно дарует нам победу!».
– Маркуша! Что это у тебя орёт так в компьютере? – Майка, вернувшаяся с экскурсий, стояла в курточке перед Елизаветой Марковной; и Елизавета Марковна тут только смекнула, что забыла надеть наушники – и опять упустила свет за окном, и что уже вечер, и что надо сейчас опять улыбаться и сидеть за столом – когда хочется только рыдать и молиться.
Да, да, катастрофа разразилась, собственно, именно в этот вечер. Майка, явно моментально прекрасно понявшая, что именно смотрит в компьютере Елизавета Марковна, не раздеваясь, застыла посреди кухни, как будто раздираемая желанием что-то высказать, выглядя так, как будто у нее всё зудело внутри от распиравших ее слов, – но не находя повода, – потому что Елизавета Марковна, дав себе зарок не портить «детям» трагическими новостями краткий праздник приезда к ней в Париж, да и вообще, не зная, не чувствуя пока до конца, что можно обсуждать при Борисе, а что нет, – быстро компьютер сложила и, почти естественно улыбнувшись, почти непринужденно протянула:
– Ну? Что видели сегодня? Добрели до Д’Орсэ?
– Маркуш, зря ты вот нервы свои на хохлов тратишь! – не выдержала вдруг Майка. – Хохлы все – ленивые и тупые. Работать не хотят, вот и устраивают Майданы всё время. – Майка принялась раздраженно расхаживать в левый край кухни и обратно, пробудив вдруг своими шагами (к собственному испугу) ото сна высокое тоненькое золотистое мусорное ведёрко с оптическим сенсором, в дальнем левом кухонном углу: ведёрко, с неким изумленным чуть охающим звуком и шелестом, подняло вверх глазастую крышку, – Майка, вздрогнув, отпрыгнула, – и вернулась на прежнюю позицию, чуть сократив амплитуду шагов.
– Майка… – Елизавета Марковна, вставшая уже из-за за стола, собираясь быстро отнести к себе в кабинет компьютер и вернуться к столу готовить ужин, заслышав Майкины слова, чуть не выронила компьютер из рук. – Что за позорные мещанские невежественные штампы?! Майка, милая! Как же ты так можешь говорить?! Ведь они принимали тебя у себя в гостях, помогали тебе! И потом… Потом… Как же ты можешь?! Разве, когда ты выходила на демонстрации протеста в Москве, – ты делала это из-за того, что была «тупой и ленивой и не хотела работать»?!
Но Майка как будто ничего не слышала, то ли не впускала в себя слов Елизаветы Марковны.
– Да там один сброд на Майдане собрался! – не то с какой-то злостью, не то со злорадством презрительно выпалила Майка, продолжая возбужденно расхаживать, но к ведёрцу стараясь больше не приближаться. – Люмпены!
Елизавета Марковна, обомлев, отказываясь верить звукам, вылетающим из Майкиного рта, отказываясь верить, что Майка это – всерьёз, что это не глупый розыгрыш, наподобие выскакиванию из шкафа и розам, – осела обратно за стол, дрожащими руками раскрывая опять лэптоп, думая, что у Майки это – от неведения (как бывает же у неосведомленных людей – подхватывают – сдуру, но не со зла – штампы, от кого-то услышанные, или вычитанные из газет: готовые лживые пропагандистские извороты; и повторяют их, не подумав хорошенько, выдавая их за собственные мысли, за недостатком своих собственных на данную тему). Елизавета Марковна всё еще ни на секунду не сомневалась, что всё сейчас развеется, как только она Майке предоставит достоверную информацию, покажет правду.
– Майка! Майка! Откуда ты это взяла? – тихо, терпеливо, но взбудораженно повторяла Елизавета Марковна, быстро загружая все знакомые мировые информационные сайты агентств, и сайт прямой трансляции с Майдана, и видео нападений силовиков и тутушек на майдановцев, заснятые непосредственными свидетелями, а иногда и жертвами, на мобильные телефоны или на видеорегистраторы автомобилей в момент погрома и избиений, и выложенные позже в интернет, и жуткие фотографии жертв. – Кто тебе это сказал? Милая? Ну что ты? На Майдане сейчас вообще вся интеллигенция украинская! Все без исключения думающие и честные люди! Интеллигенция не только творческая, но и в глубинном смысле этого слова – все думающие благородные внутренне свободные люди, из разных совершенно профессий и слоев общества! И простые люди, и профессора! Разных национальностей даже! И русские даже, которые считают Украину своей родиной, тоже, между прочим, там же сейчас, на Майдане, рискуют своими жизнями! И других национальностей люди! Там дело совсем не в национальности! Вот, вот, взгляни, взгляни: удивительные красивые благородные лица ребят, которых убили, убили несколько недель назад, в январе, – вот, вот! – быстро разворачивала Елизавета Марковна к Майке экран с невероятным видео убитого Нигояна, по какому-то провидению судьбы снятого в документальном фильме совсем незадолго до того, как его застрелили: красивый армянский юноша с короткой вьющейся бородой и с удивительными благородными иконными вишневыми глазами, прямо на Майдане, на морозе, возле баррикад и походной буржуйки, читающий на украинском языке стихи Тараса Шевченко: «Боритеся, поборете, вам Бог помогает!»
Бесплатно
Читать книгу: «Искушение Флориана. Маленькие романы»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке