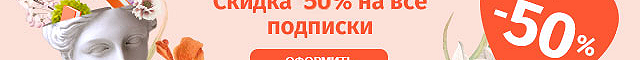
Игорь Кириенков
Предложение
От того ли, что расстояние между нами так сократилось. Я люблю смотреть, как ты спишь, и в этой торжественной утренней тишине. В одной хорошей книге сказано. Я все еще не уверен, как лучше – электронными буквами или чернилами. Сколько дней прошло, сорок? – я счет потерял.
Он набирал и стирал зачины, думая, каким должно быть первое после долгого перерыва сообщение в инстаграме. Они перестали там переписываться, после того как она осталась на чай и, несмотря на его вялые протесты, убрала свое пальто в шкаф и поставила в ботинки распорки – в том смысле, что больше они ей сегодня не понадобятся. На другой день объявили локдаун, и она, долистав до конца их любимую категорию, пожаловалась, что все лимоны разобрали.
Флиртовать в инстаграме было естественно: поводом могла стать фотография двухлетней давности или совсем свежая история, которая должна была исчезнуть через сутки, и тогда единственным напоминанием о ней оказались бы несколько бережно составленных фраз. То был робкий этап их любви, осторожная романтическая рекогносцировка, и любое слишком категоричное суждение могло растоптать молодое еще чувство – признательности? привязанности? любопытства? – но он ощущал себя заклинателем слов, раз за разом находя самые точные, самые перламутровые. Этим утром он шарил руками в пустоте и с каждым новым подходом, который заканчивался позорной ретирадой, только сильнее на себя сердился.
То есть, конечно, не в хорошей книге, а в шишкинском интервью: швейцарский классик как-то сказал, что не разменивается на письма, боясь растратить литературное вещество, которое нужно ему для романов. Когда-то он видел в этой надушенной фразе признак душевной скупости, но сейчас, дочерпав до конца свой совсем не безграничный, как выяснилось, запас слов, впервые почувствовал к этому автору что-то вроде симпатии: выходит, и ты знаешь, каково это – скрести уже по самому дну.
Она перевернулась на другой бок, и он заметил, как деликатно ложится солнце на ее волосы. А может, так и начать – с портретной зарисовки, любовного описания носа, ушей, губ; кое-как, немножко против правил, расписаться – и в конце концов взмыть к той единственной фразе, ради которой все это, вообще-то, и затевалось? Да и потом – о каких правилах тут может идти речь; как можно думать про универсальные законы, рассуждая об индивидуальном счастье? Солнце нырнуло в тучу, дивный свет погас, и по ее спокойному лицу пробежала тень, которая обычно предшествует пробуждению, когда будто какая-то невидимая рука проверяет, все ли на месте, и, только закончив инспекцию, позволяет наконец проснуться.
В нем давно бродила идея, что худший день недели, конечно, не понедельник, а воскресенье – фальшивый выходной, весь построенный на ожидании неотвратимого. Но если мирная жизнь располагала к обманным маневрам – остаться в городе или его покинуть, окружить себя близкими или уединиться, – то с закрытием всего никакого выбора не осталось. Это должно было свести на нет всякую разницу между буднями и выходными, но в действительности лишь усиливало то гнетущее ощущение, которое он испытывал уже двадцать лет, глядя на часы и понимая, что скоро все пойдет с начала – в том же невыносимом ритме.
День начался с шума: крышка сахарницы никак не садилась ровно и, когда нужно было зачерпнуть из нее пару ложек в чай, с чудовищным звоном падала на стол. «Так, из-за неожиданного грохота, люди и расходятся», – подумалось ему вбок, каким-то другим, необычайно запасливым умом, и он пожалел, что рядом нет бумаги, чтобы перенести эту идею на какой-то надежный носитель. Мысли – причем вроде бы не бездарные, заслуживающие того, чтобы когда-нибудь сквозь них проросло что-то путное, – в последнее время все чаще растворялись, не оставляя после себя ни намеков, ни опорных слов, и в этом он видел еще одну причину, по которой разучился писать. Кто ясно думает, тот ясно излагает – откуда-то из университетских времен всплыла цитата Буало и потянула за собой сразу все: аккуратную скуку французского классицизма, реферат о «Поэтическом искусстве», коллоквиумы пожилой преподавательницы-франкофонки, которая, выслушав десять минут его беспомощного блеяния (на экзамене ему достался второй, не читанный, конечно же, том «Дон Кихота»), сказала, что он никогда не станет ученым; и то, как он злился и как быстро признал ее правоту.
«Ты чего тихий такой?» – спросила она, намотала на ложку пакетик, положила его на блюдце перед собой и, бегло посмотрев на экран телефона (дата, время и бестактные рабочие сообщения), кивнула, как бы соглашаясь с невидимым собеседником. Не разделяя целиком его теории, она уважала этот смурной взгляд на календарь и признавала, что у каждого дня есть свой собственный норов. Они сходились на том, что среда – перевалочный пункт, в котором есть что-то бесконечно обнадеживающее, а утро субботы – время самых дерзких, самых отчаянных мечтаний, но совсем по-разному смотрели, скажем, на вторник (для него этот день походил на строго одетого мужчину из 1920-х, которому мысленно хотелось подражать; она различала в нем негромкий гул будущего, еще не введенного каким-то милосердным указом праздника). И воскресенья она любила искренне, как любила жизнь во всех ее утешительных мелочах, и оттого где-то в глубине души мечтала, что как он ставит на паузу сериал, чтобы объяснить ей эффектную перекличку между сценами, так и она однажды научится тормозить его, чтобы хоть на мгновение закончилось это бессмысленное, несправедливое самоедство и он увидел, до чего гармонично и чутко все в этом мире устроено.
Как обычно по выходным, время двигалось мучительными отрезками, когда кажется, что одним рывком переносишься сразу на несколько часов вперед, а потом мреешь, поражаясь, что на часах все еще нескладные 14:19. Они позвонили родителям, досмотрели эпизод, в котором Салли одними бровями пристыдила Дона, и он ушел на кухню с книгой, блокнотом и особенно тонкой ручкой – всегдашняя его читательская амуниция, которая как бы сообщала: когда меня озарит, я буду готов. Впрочем, в этот раз он не рисовался, а правда хотел написать что-то важное – что-то, что не давалось ему уже несколько недель.
Нетрудно прийти к мысли о безнадежной хрупкости брака, освоив классическую литературу, которая заполнена несчастливыми по-своему семействами. Не то чтобы он грубо примерял на себя эти судьбы, прикидывая, как бы действовал в похожих условиях: он вообще ненавидел такой подход к книгам, согласно которому читателю полагается отождествлять себя с Гуровым или Нехлюдовым. И все же он полагал, что с этим (многозначительный курсив) нужно повременить. Его угнетала однозначность, тупая безальтернативность женитьбы: заманчивый своей непредсказуемостью горизонт в его уме превращался в угрюмо расчерченное поле, на котором разыгрывался мучительный пат. Потребовалось два тяжелых расставания, прежде чем он понял, какой это дурацкий предрассудок; два расставания – и один всемирный карантин.
Предложение не складывалось, и после шести депрессивная атака усилилась: он понимал, что завтра его опутают служебные тексты и на сочинение главного просто не останется сил, – придется жить еще неделю, день ото дня наблюдая, как голова все больше становится огромной флешкой (количество заразившихся, абсурдные слухи, бестактные рабочие сообщения). Писать нужно было сейчас, и он вернулся в комнату с двумя стаканами чая, нелепо рассчитывая на этот стимулятор – но разве не так же были написаны его самые любимые студенческие работы с воображаемым оранжевым разводом на титульном листе?
«А чего без лимона?» – спросила она и ушла на кухню. Он скорее придумал, чем действительно расслышал звук, с которым на доску брызнул сок, а потом на стол снова упала крышка сахарницы.
Ему нравилась история о том, как молодой Чехов писал рассказы, пока в соседней комнате шумело застолье; его вообще впечатляло, какие препятствия преодолевали кумиры прошлого, работая над своими сочинениями, и как ловко они умели маскировать неблагополучные бытовые обстоятельства. Но в этом и заключается роковая разница между богатырями и нами: гений продолжил бы терзать бумагу, пока терзали его слух, а он отложил блокнот, опустил телефон экраном вниз, закрыл глаза, уперся спиной в диван и начал считать, надеясь, что на семи его уже отпустит.
«Я тебе тоже положила – правильно?» – спросила она у него, напоминавшего в этой позе не то Будду в экстазе, не то римского императора, прикорнувшего перед тем, как обрушиться на провинившихся подданных. Он открыл глаза, размешал сахар, отпил чай, по давней неопрятной привычке достал лимон и выгрыз всю мякоть.
«Давай попробуем сегодня лечь пораньше? Не хочу опять начинать неделю разбитой», – предложила она, отодвинув опорожненный стакан. Сделав руками неопределенный жест, который можно было трактовать и как не слишком энергичное согласие, и как миролюбивое «давай вернемся к этому позже», он подцепил лимон из ее кружки и впервые за день почувствовал себя хорошо.
У того, что произошло дальше, наверное, не было никакого смысла. Он свернул кожуру от лимона вдвое и надел себе на палец: в памяти возникли детские сладкие украшения, которые недолго задерживались у него на запястьях, – вскоре от браслета оставалась одна только влажная нитка. Он свернул второе кольцо и, подавшись к ней, выставил его на ладони.
«Я люблю смотреть, как ты спишь, и в этой торжественной утренней тишине много размышлял о том, как это должно случиться. От того ли, что расстояние между нами так сократилось, мы совсем перестали переписываться – и если я о чем-то рядом с тобой скучаю, то разве что о минутах, когда подолгу ждал от тебя ответа. Я все еще не уверен, как лучше – электронными буквами или чернилами, и потому хочу произнести это вслух. В одной хорошей книге сказано, что все на свете должно происходить медленно и неправильно. Сколько дней прошло, сорок? – я счет потерял, но я хочу терять его вечно, если рядом со мной будешь ты».
Лимонное кольцо подозрительно легко село на палец – так, словно сегодня была какая-нибудь беззаботная среда.
Ольга Птицева
Дрезденский фарфор
Переболеть Арина успела еще в апреле. Засыпала здоровым человеком, а проснулась вся заложенная, слабая и липкая.
О проекте
О подписке