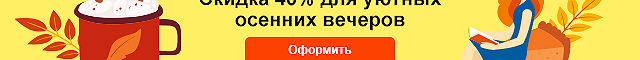
Про трупы
Выставка «Тайны человеческого тела». Экспонаты, сделанные из трупов людей, особым способом обработанные для демонстрации строения человека. Много-много залов с лежащими и стоящими жутковатыми объектами, распахнувшими для обозрения брюшную полость и черепную коробку. Ну конечно – само собой – печень алкоголика, лёгкие курильщика, поджелудочная скончавшегося от панкронекроза… Всё в открытом доступе, даже и потрогать можно. Ходим, поёживаясь, поначалу идентифицируя этих господ без кожи или просто скелеты с собой. К концу экспозиции – ничего, привыкаешь. А что, нормально…
У выхода лежит нога в поперечном срезе. Она «нарублена» на 10-сантиметровые фрагменты, которые немного раздвинуты: обходи со всех сторон, любуйся, как у тебя в нижних конечностях всё устроено – кости, мышцы… Познавательно. Обходим. Любуемся.
Ну, дальше уже только доска отзывов. Люди пишут. Благодарят. Читаем и отзывы – «деньги плочены»…
Вдруг!.. По глазам – жжах!.. Лаконичная надпись, крупно: «ОСМОТРЕЛ. ЗАХОТЕЛОСЬ ХАМОНА».
Стоим. Офигеваем. И… – захотелось. Этого самого хамона. Всем. Как ни цинично в этом признаваться.
Вот что это, а?
Про слабо
И чего они все бесились по поводу этих чёртовых причёсок? Лучше б на учебный процесс усилия свои направляли. Середина семидесятых – такое время, когда серую «мышиную» форму в старших классах уже западло носить было, а ту, синюю, ещё не ввели. Поэтому мальчикам – просто тёмный костюм; если жарко – однотонная рубашка, стрижка аккуратная – на усмотрение родителей. Уши оголены чтоб, затылок «снят», спереди – желательно пробор с зачёсом набок. Буэ-э-э…
Особенно бесился Шеф. Сам-то он в конце сороковых увяз: волосы кудреватые смоляные, зачёсанные назад; а если кудря на лоб падала, то он её ловко – р-р-яз! – и клешнёй своей короткопалой на место. Жест, не лишённый кокетства. Ладно, хоть ума хватало свою причёску в пример не ставить.
Его, конечно, понять можно: директор школы – во-первых, бывший военный – во-вторых. Видимо, он был бы рад, если б мальчишки поголовно в гимнастёрках ходили с подшитыми подворотничками. И стрижка чтоб одного фасона на всех. Без баловства.
Нет, он и по поводу девчонок высказывался, конечно. Не нравилась ему, видишь ли, причёска в два хвоста над ушами. Ну такая, как у Принцессы в «Бременских музыкантах». Изображал он её довольно противно, с размаху приставляя свои кургузые кулаки к голове с обеих сторон. Ехидно не намекал, а впрямую говорил, что эти хвосты напоминают ему рога. Полкласса сидело с этими симпатичными рожками – шелковистыми, в локонах, и не знали, куда деваться от страха, глаза прятали; а ну-ка Шеф распалится и начнёт выдавать свои комментарии, лично к тебе обращённые. С него станется…
Шеф преподавал физику. Орал, топал ногами, швырялся тетрадями. Я от страха в сочетании с природной дубинноголовостью не понимала ни черта. Да и, господи, я одна, что ли? Пол-урока он обычно гвоздил нас в хвост и в гриву за лень и тупость. Получая на стандартный вопрос: «Где тетрадь с домашним заданием?» стандартный ответ: «Дома забыл», Шеф упирался руками в стол и издевательски тянул:
– А ты поза-а-автракать сегодня не забыл?
И всеми силами добивался ответа. Когда получал еле слышное «нет, не забыл», просто взвивался от радости!
– Канешна-а-а!.. О чём я спрашиваю!.. Позавтракать!.. Святое! Брюхо набить!.. Как-к-ая там физика! Тетрадь!
Раз кто-то в виде исключения решил сказать, что да, забыл позавтракать, ну просто, чтобы разнообразить представление. О божечки, что тут началось…
– Забы-ы-ыл?! – орал Шеф. – Позавтракать? Даже это забыл? О чём тогда вообще с тобой разговаривать, что в башке твоей глупой? Если бутерброд с колбасой под носом своим не видишь, а? Тебе в какой школе учиться надо, если ты… – ну и пошёл, и пошёл…
Ой, правда, что это я? Я же совсем о другом хотела.
Короче: наш восьмой класс; урок физики. Весна. Настроение подавленное.
У доски – Васька Селивёрстов. Удивительный персонаж. Глуп как пробка. Знаете, как слово «галлюцинация» писал? «Гуледценацыя». И не знал, конечно, что это такое.
Красив, как… Олег Видов, помните такого? Вот только ещё лучше. К тому же – соло-гитара в школьном ансамбле. По поводу своих колов совершенно не парился. Видимо, думал, что его привлекательная внешность откроет любые двери. (Нет, не открыла, как впоследствии оказалось.) Но – к делу.
Селивёрстов у доски, то есть спиной к доске, – в свободной расслабленной позе, клеша от колена тёмно-синие, рубашка приталенная в светло-синих восточных огурцах. Заострённый длиннющий воротник, две верхние пуговицы расстёгнуты. Ботинки на платформе. Баскетбольный рост, спортивная фигура. Глаза – синь поднебесная. Волосы – светлый лён – аккуратно, модно подстрижены. В меру длинные. Удлинённые, скажем так.
И – Шеф. Как Васька в кривом зеркале: маленький, квадратный, черноволосый. В любимой позе – набыченный, о стол двумя кулаками опёрся. Даже спрашивать не стал. Сразу:
– Чево за рубаха на тебе, Селивёрстов, а? Ты чево – на Советскую вышел, с подругой прогуляться? Или в школу пришёл? Что за рубаха, я спрашиваю?
– Рубаха, – безмятежно ответил Васька и улыбнулся.
– Рубаха-а… – зловеще протянул Шеф. – Ходят, понимаэшь… битлсы… любу-уются собой… Тошнит от вас!.. Идёт такой – патлы са-а-льные, рубаха до пупа расстёгнута, на шее – висю-юлька… Не парень – тьфу! И – любит себя, любуется… Думает, девки штабелями перед ним…
Васька обалдел от несправедливости высказывания. Во-первых, выглядел он аккуратно: ничего до пупа расстёгнутого, висюльки тоже нет, волосы чистые. Особенно обидным показался пассаж о любви к своей внешности. Не принято это было. Улыбка сползла с его лица.
– Чё сразу…
А Шеф, опытный, гад, тут же дожал:
– Лю-юбишь, любишь себя, за версту видно… Зеркало, небось, каждый день дома полируешь – на себя любоваться… И так и этак…
И показал как.
– Вы чё на меня? – окрысился Васька. – Чё оскорбляете… Не любуюсь я…
– Не любуис-с-ся… – весело сказал Шеф. – А докажи. Слабо под ноль подстричься?
– Ничё не слабо, – хрипло буркнул Васька, – у меня денег нет.
– Это я тебе дам, – совсем развеселился Шеф, – десять копеек с меня. Безвозмездно, – вытащил из кармана горсть мелочи, поковырялся там и – бам! С размаху звонко стукнул десюльником об стол. Класс застыл в полуобмороке.
Васька громко сглотнул, провёз по столешнице пальцем монету и… вышел из класса.
Возбуждённый Шеф подпрыгнул и уселся на стол. Поболтал ногами.
– Н-ну… – азартно произнёс он, – хоть одного уважать можно. Ещё мужики найдутся?
…И они пошли.
Первым из-за парты вылез Кусок, пропетлял своей расхлябанной походкой к доске, дёрнул шеей по-блатному: мол, сам чёрт ему не брат. Потом Синий со своим дурацким смешком: «Гы-гы!» Кузя, Барсук, Ося, Лыка… Пятнадцать человек. Последнему Шеф выдал полтора рубля. Без отдачи.
…На стрижку «под ноль» ушло ровно два урока, парикмахерская же была напротив школы… Хотели было оскоблить головы бритвой до блеска, назло Шефу, но парикмахерша отказалась.
В итоге школе пришлось пожалеть о бездумном поступке её директора. Лысые надолго лишили покоя не только свой класс, но и всю параллель восьмых, и девятые. И седьмые…
Сначала толпами на переменах ломились посмотреть; потом «нулевой отряд» слаженно летал по школе, толкая всех с дикими криками в коридорах. Пугали малышей, толпой заваливаясь в начальные классы, сносили очередь в буфете… Слово «лысый» побило все рекорды по частоте употребления. Зайдя в класс после перемены, учительница русского языка обнаруживала исправления в написанных ею на доске темах сочинений: «Онегин – ЛЫСЫЙ человек», «Татьяна – ЛЫСЫЙ идеал»…
Но, конечно, всё когда-то кончается. Лысая эпопея закончилась в тот день, когда перед уроками Селивёрстов встал у доски и крикнул:
– Секите!
Вынул изящную мужскую расчёску из кармана, в одно касание продул её справа налево и… легко прочертил ребром от макушки до лба. Потом чуть повёл расчёской влево.
И все увидели – волосяной ёжик послушно лёг за движением его руки.
Потому что он перестал быть ёжиком.
Вот такая история.
Про…
Ну, наконец-то мы… Сначала был ростовский – обычный, грязный, бестолковый поезд южного направления: какие-то бабки с мешками, помидоры-яйца, клочки газет, крупная соль в спичечном коробке, раздражённое: «Хр-р-ржданин, можно в другую сторону ноги свесить?..» Гоголь-моголь из нашего средне- и южнорусского говора, разгорячённые тела, съехавшие с полок засаленно-полосатые матрасы, младенческий плач, вагонные запахи – сами знаете какие, описывать не буду.
А потом, уже из Ростова, поездом Москва – Ереван прямо до места назначения, города Сухуми, куда мы с мужем и пятилетним Серёжей ехали на море, отдыхать.
Вот здесь всё было удивительно. Нет, грязь и пыль в плацкартном вагоне такие же, как бы ещё не похуже, но…
Начнём с того, что на весь вагон были только три блондинистые головы – моя, Игоря и Серёжина. Остальные – жуковая смоль. Гортанная быстрая речь. Толстые тётеньки с пухлыми руками в перстнях, в тяжёлых серёжках с красными камнями – улыбчивые, ласковые, а мужчины, наоборот, поджарые, резкие. У меня до сих пор впечатление, что все женщины в вагоне были армянской национальности, а мужчины – грузинской.
Серёжа только успевал головой вертеть. И пахло здесь совсем по-другому – пряными травами, кинзой, орехами. Баклажанной икрой. Толстый лаваш лежал на столах вместо хлеба. Гортанное многоголосье сливалось в какую-то странную музыку, приятную для уха. Все в вагоне были уже знакомы – видимо, ехали прямо от Москвы, а не то что мы – на перекладных.
Мы занимали три полки в плацкартном «купе», одна верхняя была свободна. На боковушке двое решали кроссворд из «Огонька». Это было по-настоящему смешно, мы с Игорем еле сдерживали хохот, потому что «разгадыватели» были нетерпеливы, горячились, переругивались и в конечном счете все ответы подогнали, пренебрегая правописанием, удваивая буквы, где их не хватало. Я сожалею только о том, что не захватила с собой этот журнал, который попросила «почитать», потому что в кроссворде перлов хватало…
Проводник стал разносить чай. Он делал это совсем не так, как в ростовском поезде: сначала раздал пустые стаканы, а потом явился разливать.
Для чайной церемонии он специально нарядился в белую куртку, и она странно контрастировала с огромным, алюминиевым, дико закопчённым чайником, где всё уже оказалось заварено. Было трудно отделаться от мысли, что чайник кипятился на костре, разведённом где-то там у них в проводницкой.
…А потом в вагон сел тот парень. На боковую нижнюю полку, недалеко от нас. По виду – грузин. Кепка, усы – всё как положено. Сел – и сразу развил бурную деятельность. Он выскакивал на станциях заносить вещи новым пассажирам, бегал за чаем и сигаретами для соседей, подбрасывал на коленях чьего-то малыша, когда матери надо было отлучиться. «Костёр в заднице», – тихо произнёс муж, когда парень в очередной раз мелькнул по коридору.
Вечером он ухитрился поссориться с кем-то не из нашего вагона и выяснял отношения в тамбуре; а я, выйдя в туалет, с опаской слушала про «кынжал», который у него всегда при себе, и он готов пустить его в ход, когда «нужна спра-авэдливость».
К концу дня он угомонился и лёг; а ночью рыцарски уступил своё нижнее место вошедшей женщине и, прямо в носках, оставив туфли на прежнем месте, явился к нам и занял свободную верхнюю полку.
Утром сосед был готов разделить наши хлопоты. «Эй, брат, принеси ботинки!» – крикнул он, вертанувшись на полке в другую сторону и сунув голову в коридорное пространство. Непонятно, кому конкретно адресовалось послание, но какой-то «брат» немедленно принёс ему обувку. Он вышел на ближайшей станции и купил арбуз, которым угощал нас и особенно настойчиво Серёжу, умиленно глядя, как тот вгрызается в ароматный полумесяц, а потом водил его мыть лицо и руки.
Настало время обеда. Работники ресторана понесли металлические судки, гремя многоэтажной подставкой и распространяя по вагону терпкий запах распаренного харчо, жареного лука, перегоревшего томата и бог знает чего ещё…
Парень харчо брать не стал, а взял азу по-татарски с варёным рисом, сел рядом с Игорем за столом и открыл крышку. Напротив сидели мы с Серёжей.
Остро запахло томатом и солёными огурцами. Парень начал есть. Серёжа провожал напряжённым взглядом каждый кусок мяса, исчезающий за шевелящимися усами. Что делать? Я ёрзала от неудобства ситуации… Ни увести, ни отвлечь ребёнка было невозможно. На третьем куске наш сосед поднял глаза от миски и, подвинув её к Серёже, ласково спросил: «Хочэшь?»
Тут Серёжа перевёл взгляд с парня на меня и спросил своим ясным хрустальным голоском:
– Мама… Это – чурка?
Показалось мне, или на самом деле в вагоне повисла звенящая тишина?
О боги мои, опустите бархатный занавес над этой постыдной сценой! Никогда, слышите, никогда, клянусь вам, не было в нашем семейном лексиконе этого слова!.. Никогда я не чувствовала себя такой тварью и идиоткой одновременно! В голове обрывочно летали мысли про «кынжал» и высадку по стоп-крану посередине нагретой зноем степи. И это было бы «спра-авэдливо».
Видимо, всё это хорошо читалось на моём мучительно напряжённом лице с полузакрытыми глазами.
Знаете, что сделал парень? Он протянул свою смуглую большую руку через стол и потрепал моего сына по белобрысым кудрям:
– Ничего, – сказал он, – малэнький ещё…
…Вагон привычно зашумел, и мы поехали дальше.
Про катыклош
– Ка-ти-клощ, – по слогам диктует Гуля.
Я записываю. Понятно, что основа – слово «катык», но под Гулиным пристальным взглядом исправлять мне неудобно.
– Не знаю, как объяснять. У вас, Ирин-апа, вообще такой буква нет…
Задавив в себе чувство стыда за наш недоразвитый алфавит, в котором «вообще такой буква нет», плюю на фонетические изюминки узбекско-русского перевода, кладу карандаш, плотнее заворачиваюсь в плед и слушаю…
Было это лет двадцать назад. Гульмире было семь или восемь, когда её бабушка, Рсолат-бува, приготовила катыклош из катыка и лапши. Мулла прочитал над ним молитву, и получился священный суп для… Ок-момо, вот. Его разнесли соседям, по всей махалле, чтобы ели и молились за Рсолат.
Ок-момо? Дух. Нет, не ангел. Ангел на их языке будет фаришта. А это дух, что тут непонятного? Один из семи пыр. Дух, хранящий людей. Только Ок-момо – хранит бабушку, а Ок-бобо – дедушку.
Ок-момо надо просить, чтобы сделал волосы белыми. И забрал зубы, которых ещё полно, и все крепкие. Как – «зачем»? Старуха же… Голова белая – душа белая. Так у них говорят.
– Если этого нет, то что-то не то… – Гуля качает головой. – Стыдно. Перед соседями. Перед мулла…
Молчим. Я потрясена. Вспоминаю старый японский фильм, в котором старуха выбивает камнем зубы, чтобы сын отнёс её в горы умирать. Иначе семье не прокормиться. Смотреть было невыносимо, честно, а тут…
Я первой нарушаю затянувшееся молчание:
– И… Ок-момо…
Сделал, да. Только не сразу, конечно. Бабушка не один год просила. А когда заметила первую седину, так радовалась, так благодарила!
О проекте
О подписке