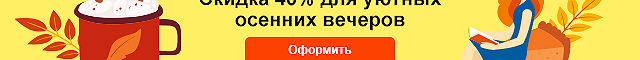
Часть третья
Полемика о формальном методе в советской Украине 1920‐х годов
Глава 1. К постановке проблемы
Этическое vs Идеологическое в дискуссиях о формальном методе
Дискуссии, которые велись в советской Украине на протяжении 1920‐х годов на страницах популярных литературно-критических журналов[568], свидетельствуют о попытке не только усвоить опыт формальной школы, но и сформировать свое собственное отношение к ней. Помимо этого, дискуссии являются яркой иллюстрацией одновременного присутствия и развертывания в украинской советской культуре 1920‐х годов сразу нескольких дискурсов – национального, марксистского, антиколониального, раннесоветского. Сама по себе рецепция идей русского формализма говорит об открытости украинской культуры и ее готовности к восприятию «чужого» опыта, что Александр Веселовский обозначил как «встречное течение»: «Влияние чужого элемента всегда обусловливается его внутренним согласием с уровнем той среды, на которую ему приходится действовать»[569].
Прежде чем обратиться к дискуссиям вокруг проблемы формы и содержания в украинской периодике 1920‐х годов, рассмотрим принципиальную разницу идейных позиций, с которых выступали критики марксистского и формального методов. Эту разницу можно легко проиллюстрировать расхождением этического и эстетического в истории литературы и искусства и в понимании марксистов и модернистов.
Со второй половины XIX века, с развитием позднего романтизма и модернизма, эстетический план в литературе и искусстве вытесняет этический. Если для критического реализма характерно совпадение эстетического и этического (апеллирующего к содержанию) планов[570], то уже для позднего романтизма эта парадигма меняется: эстетический план (понимаемый как формальный) выходит на первое место. Однако это не говорит о том, что модернистов перестают интересовать этические проблемы. В реализме этическое рассматривается как предикат социально-психологической реальности, однако в позднем романтизме[571] / раннем модернизме под реальностью понимается совершенно иное, нежели в реализме. Так, например, поздние романтики видели истинную реальность за пределами обыденного мира, чаще всего в эстетическом. У символистов это «высшая реальность», постигаемая посредством символов, поэтической интуиции, озарения[572]. Позже, у сюрреалистов, это «сверхреальность», т. е. скрытое в подсознании, непроявленное[573].
Середина и вторая половина XIX века – это не только эпоха расцвета критического реализма и позднего романтизма, но также эпоха возникновения идеологии в современном смысле этого слова[574] – марксизма, национализма и расизма. Будет не лишним указать связь, в частности, марксистской идеологии и позднего романтизма. Основополагающий документ марксизма – «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса (1848) – начинается с фразы, которая сделала бы честь любому писателю-романтику: «Призрак бродит по Европе…»[575]. Как и критический реализм, и поздний романтизм, марксизм провозглашал своей главной целью прорыв к «истинной реальности».
Только для марксизма этой реальностью была обнажаемая потаенная правда производственных отношений, для реализма – социально обусловленная психология людей в ее связи с вещным миром, а для модернизма это могли быть, к примеру, потусторонние идеи или подсознательное. С этой точки начинается модерная история сосуществования и смешивание эстетического, этического и идеологического. Именно здесь возникают предпосылки для странного союза между многими эстетами – поздними романтиками, крайними модернистами и марксистской (коммунистической) идеологией (например, в какой-то момент у Маккавейского; или у героев блоковского очерка «Русские денди»[576]). Иными словами, предполагалось, что этическое суждение выносится не на основании божественного откровения, или Ratio, или с других позиций, а исходя из того, насколько это этическое суждение «служит» интересам «подлинной реальности» марксистов или модернистов[577]. Точно на таких же основаниях происходил «брак» некоторых поздних романтиков / модернистов с национализмом и даже расизмом. Тем интереснее проследить историю «расставания» одних адептов этики, обусловленной «подлинной реальностью», с другими, историю расхождения приверженцев этики «идеологии» и приверженцев этики «эстетического». Множество таких сюжетов разворачивается после русской и украинской революции 1917 года[578].
Не секрет, что множество представителей русского литературного и художественного модернизма и реализма до 1917 года выказывали симпатию к идеям социализма и коммунизма, начиная с Максима Горького[579], заканчивая Александром Блоком и прочими. Местом схождения их этических позиций была как раз та самая точка, о которой мы говорили выше. Именно это позволило Горькому проповедовать жестокие меры против российского крестьянства, а Блоку – воспеть революционных насильников в поэме «Двенадцать». У последнего они даже становятся апостолами новой этики и возглавляет их Христос: «В белом венчике из роз – / Впереди – Исус Христос»[580].
Но уже в конце Гражданской войны в России наступает взаимное охлаждение и разочарование: становится очевидным, что задачи у идеологии победившей революции и модернистского проекта разные. Одними из первых под огонь марксистской критики даже в условиях нэповской либерализации попадают те из историков, которые ранее воспринимались как прогрессивные, отступавшие от позитивистского канона одновременно в сторону и социологических, и мировоззренческо-романтических моделей, как Роберт Виппер[581]. Здесь стоит вспомнить судьбу Виктора Шкловского, который до 1921 года «делал» одновременно две революции – политическую и революцию литературной теории. В его книге «Сентиментальное путешествие», посвященной бурным событиям 1917–1922 годов, прежде всего поражает убедительное чувство этической правоты повествователя, преобразующего мир двух реальностей – социальной и эстетической.
Но уже после 1923 года вернувшийся из Германии Шкловский и другие формалисты попадают под двойной огонь критики со стороны марксистских идеологов. С одной стороны, это Лев Троцкий[582], тогда один из главных руководителей советского государства, а с другой – члены пролетарских писательских организаций, которые считали себя более правоверными марксистскими идеологами, нежели сама советская власть. Критика не исключала в ряде случаев известной терпимости (до «Великого перелома») со стороны большевистской верхушки к тонкости анализа у формалистов, например, в изучении риторики Ленина на страницах ЛЕФа[583].
Подобная ситуация была характерна не только для советской России 1920‐х, но и для других национальных республик СССР. И здесь национальные особенности не затемняли главную линию расхождения в вопросе об этическом и идеологическом в искусстве. Если в России показательной смычкой был союз с большевиками Маяковского и «комфутов», а также Брюсова (из старших символистов), то в Украине ряд младших символистов (Д. Загул, Я. Савченко) после 1918 года становятся ведущими «критическими перьями» марксистского лагеря.
Полемика вокруг проблемы формы и содержания в украинской периодике 1922–1923 годов и позже – вокруг статьи Б. Эйхенбаума и его лекций в Харькове – показывает, как постепенно к середине 1920‐х годов этическое / ценностное в понимании модернистов начинает конфликтовать с этическим в понимании идеологов марксизма. При этом общим для высказанных позиций критиков-марксистов является их оценка эстетической в первую очередь позиции формалистов как «объективно» реакционной – вопреки декларациям и искренним убеждениям самих сторонников опоязовцев. Другими словами, по мере утверждения марксистской идеологии, марксистского понимания «подлинной реальности» все конкурирующие мировоззренческие платформы не просто отодвигаются в область частного исповедания (религия как Privatsache у ранних немецких социал-демократов), а воспринимаются негативно и даже враждебно. Соответственно, и культура, и литература автоматически оказываются главными объектами этой оценочной системы.
Здесь важно отметить и другое. Галин Тиханов, подробно рассматривая вопрос взаимоотношения марксизма и формализма, отмечает, что формализм и марксизм наряду с фрейдизмом разделяют общую эпистему модерности. В ее основе лежит вера в возможность рационализировать то, что находится вне человеческого контроля. Поэтому как для марксизма, так и для формализма первостепенное значение имела «научность» их методов: «После Октябрьской революции и марксизм, и формализм стремились воплотить идею научности в обществе, охваченном быстрой модернизацией»[584]. Из чего следует, что формализм и марксизм нужно рассматривать не как противников, а скорее, как соперников в области изучения объективных законов, управляющих культурным развитием.
Другими соперниками были психологические теории (включая психоанализ Фрейда) – но часть их в Украине и России попытаются советизировать, критикуя формализм, – а также академическая «буржуазная» социология, которая как раз в марксистской периодике начала НЭПа подвергается отрицанию и довольно грубой критике[585].
В качестве фундаментального различия между главными течениями Тиханов выделяет прескриптивность марксизма, призывающего к определенному политическому действию, и дескриптивность формализма. Именно это принципиальное различие сделало невозможным их диалог (при всем обилии рецептов смешения формализма и социологизма), что, в свою очередь, иллюстрирует анализ дискуссий в украинской периодике 1920‐х годов.
Глава 2. Проблема формы и содержания в спорах на страницах украинской периодики 1922–1923 годов
Полемика вокруг проблемы диалектики «формы» и «содержания» является первой серьезной полемикой в украинском литературоведении 1920‐х годов. Основными ее участниками были критик-марксист и литературовед Владимир Коряк, критик-марксист и писатель Иван Кулик, критик и библиограф Юрий Меженко, поэт и критик Владимир Гадзинский, писатель Кость Гордиенко. Полемика происходила в основном на страницах журналов «Шляхи мистецтва» и «Червоный шлях»[586].
Во втором номере журнала «Шляхи мистецтва» за 1922 год было опубликовано сразу несколько статей, посвященных как вопросу формального метода, так и развитию современного украинского искусства. Это статьи В. Коряка «Форма и содержание», И. Кулика «На пути к пролетарскому искусству»[587]. Две другие статьи этого номера – В. Полищука «Пути и перспективы в современной украинской литературе» и М. Йогансена «Конструктивизм как искусство переходного периода» не имеют прямого отношения к дискуссии, однако их упоминание важно для общего контекста этой полемики. В рамках дискуссии следует также рассматривать статью Коряка «На литературном фронте. Формалистское вторжение» того же года[588], критический очерк Иеремии Айзенштока «Изучение новой украинской литературы (Заметки)»[589], две статьи Костя Гордиенко «На литературные темы»[590], статьи Андрея Ковалевского «Вопрос экономически-социальной формулы в истории литературы»[591], Евгения Кагарова «Кризис истории литературы»[592], теоретическую работу Бориса Якубского «Социологический метод в литературе» (1923).
Здесь остановимся на отдельных, наиболее важных для понимания отношения к формальному методу статьях.
Полемику открывает статья Коряка[593] «Форма и содержание», в которой он делает обзор отдельных новейших «буржуазных» (по определению автора) теоретических концепций, в основе которых лежит формальный аспект изучения литературы и искусства. Критик обращается к анализу работ Шкловского «Как сделан Дон-Кихот» (1919) и Жирмунского «Композиция лирических поэм» (1921); к концепции «чистой формы», предложенной польским писателем и художником Станиславом Виткевичем[594] (автором журнала левого искусства Nowa Sztuka); к теории формы и содержания польского историка литературы Юлиуша Клейнера (1886–1957)[595]. В качестве небольшого комментария отметим широту знакомства автора не только с работами теоретиков ОПОЯЗа, но и с новейшими теоретическими поисками западной науки.
В первой части статьи Коряк последовательно излагает методологический принцип работ Шкловского и Жирмунского. Критик отмечает, что «Шкловский совсем по-новому анализирует чисто формальную конструкцию классиков, таких как Сервантес. Он следит шаг за шагом за тем, как „разворачивается сюжет“ в новелле»[596]. Изложение работ Шкловского критик подытоживает: «Шкловского совсем не интересует идеология, более того, никакой идеологии и нет – достаточно самой техники»[597].
Коряк констатирует, что Жирмунский точно так же подходит к вопросу о композиции лирических произведений, обращая внимания читателя только «на способ письма, а не на способ думания писателей»[598]. Из всего этого критик делает вывод:
Только одно можно с уверенностью утверждать, что такой подход к художественному произведению значит: вынуть из него душу, превратить живой организм в высохшую мумию. Есть такой журнал «Начало», и там некий Виктор Виноградов тоже пишет про «сюжет и композицию» гоголевского «Носа» и примазывается к новой науке – носологии[599].
К апологетам формального метода Коряк причисляет и Александра Белецкого, который в том же году в журнале «Путь просвещения» опубликовал похвальную рецензию на работу Жирмунского «Композиция лирических произведений». В этом контексте следует упомянуть и другую статью Белецкого «В поисках новой повествовательной формы», в которой автор с помощью формального метода анализирует «повествовательную технику» Хвылевого на примере его сборника рассказов «Синие этюды» (1923). В своем анализе Белецкий исходит из работ Шкловского о Тристраме Шенди, Дон-Кихоте и Розанове, при этом отмечая, что достижения формальной школы в области изучения литературной техники бесспорны[600].
Основная критика Коряка направлена против самой эстетической и идейной позиции формалистов (и не только), которые рассматривали литературное произведение (в своих ранних работах) вне социальных и биографических рамок. Не случайно Коряк отмечает, что «формалисты научно не говорят про организацию идеологии. Они пишут, видите ли, про организацию словесного материала. ‹…› Они организовывают определенную форму идеологии, но такую, что про нее лучше молчать»[601]. Коряк делает однозначный вывод, что пролетариату ни к чему «все эти „поэтиканские“ хитрости современных схоластов – формалистов»[602]. Из этого следует, что сама по себе эстетическая позиция формалистов противоречит диалектико-материалистическому пониманию искусства, в котором литература рассматривается как оружие классовой борьбы. Как писал знаменитый большевистский теоретик Александр Богданов (впрочем, тогда уже далекий от руководящих позиций): «Искусство – одна из идеологий класса, элемент его классового сознания, а произведение может отражать мировоззрение только одного класса»[603].
Во второй части статьи Коряк предлагает читателю свою схему-визуализацию соотношения формального и содержательного элементов в литературном произведении. Критик выделяет четыре уровня. Уровень А – творческий замысел, предшествующий появлению произведения (Коряк обозначает это как «существенное содержание»). Уровень В – «концепция», что подразумевает материализацию идеи с помощью элементов формы. Совмещение двух предыдущих уровней А и В рождает третий уровень – С, который критик обозначает как «структуру», т. е. это сознательная работа автора над структурой произведения. И наконец, уровень D – «внешняя форма» – является окончательным выражением произведения. Далее Коряк дает вывод, что из всех уровней только А не имеет отношения к форме, равно как D не имеет отношения к содержанию. Исходя из этого, критик предлагает следующую схему:
содержание равняется: А (содержание) + В (концепция) + С (структура);
форма равняется: В (концепция) + С (структура) + D (внешняя форма).
Таким образом, А отвечает только за содержание, D – только за форму, а В + С являются нечленимыми формально-содержательными компонентами.
Из этого Коряк делает вывод: «Произведение искусства является организмом, а в живом организме не все ли есть форма, что есть организм? Липпс[604] подчеркивает, что в произведении искусства малейшее изменение формы является изменением и его содержания»[605]. Здесь очевидно, что парадоксальным образом Коряк приходит к тезису, который изначально подверг критике, – «форма есть содержание». По мнению автора концепции, приверженцы идеи «чистой формы» (к которым он причисляет и формалистов) просто исключают уровень А – «содержание» из своих теорий.
Тем не менее свою статью Коряк заканчивает безапелляционным тезисом:
Формализм – прекрасное оружие в руках наших классовых врагов. ‹…› Проблема формы и содержания не существует «как таковая» для пролетарского искусства. Есть опасность увлечения буржуазным новаторством поиска формы. Реализм, натурализм, «правое» и «левое» нас одинаково не интересуют, потому что это формальные проблемы буржуазии[606].
О проекте
О подписке