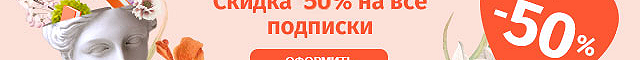В этом году я нашла Ратсхоф.
Раньше я добегала до границы Амалиенау (в моём сознании граница установилась где-то у ресторана «Бухара») и поворачивала обратно. Наше внимание устроено таким образом, что сначала заполняются одни этажи, потом — другие, и так далее. Гении вроде Холмса способны ухватить вниманием картину целиком; я не Холмс, я постигаю ступенчато, последовательно.
В этом году мне стало интересно: а что там, за границами?
Я почитала интернет, посмотрела фото и пошла в Ратсхоф.
Не представляю, как здесь было до войны, не представляю, как — сразу после, не очень представляю советские годы. Сейчас здесь, как и в Амалиенау, тихо, зелено, котасто, разноцветно. Улица Ремонтная — вполне открыточная, только экскурсионных толп я на ней не видела ни разу. Встречные смотрят с интересом: редкий турист долетит до середины Ратсхофа )) Я, как упоминала, нашла спортплощадку мечты и стала по утрам бегать сюда тренироваться. Однажды со мной бежала местная собака. Было смешно, когда я, растягиваясь, встала в позу «собака мордой вниз», и собака повторила движение за мной. )
Жить здесь не так удобно, как в Амалиенау (с точки зрения туриста), но гулять сюда мне понравилось.
Теперь о книге «Почтовая станция Ратсхоф» Евгения Рудашевского.
Это подростковый роман (у меня две книги, пока читаю первую); действие происходит, как можно догадаться в Калининграде, и, что мне особенно нравится, в Калининграде нашем, современном, актуальном, но — с нормальной такой рефлексией по прошлому.
Главная героиня Оля — девятиклассница, она занимается посткроссингом, живёт в Ратсхофе, папа у неё историк, мама печёт пирожные; они держат что-то вроде магазинчика открыток в пристройке к старой вилле. Вилла покрыта шинделем — деревянной чешуёй или дранкой (а я впервые увидела, вернее, моё внимание увидело эту чешую на прогулке в этом году!); в книге есть размышления о разнице между шинделем и гонтом и свойствах древесины и качестве немецких гвоздей — читается взахлёб.
Оля родилась и выросла в Калининграде, но семейная история позволяет ей рефлексировать о прошлом дедушек, бабушек и... города.
«... к сорок пятому году Пётр Иванович переводчиком попал в Смерш, то есть в контрразведку, и вслед за штурмовыми отрядами вошёл в Кёнигсберг. Ему, как и другим офицерам, позволили занять любую из брошенных вилл. Они все пустовали, хотя немцев в городе ещё жило много. Центр города был разрушен, а окраинные районы уцелели, и Пётр Иванович выбрал себе виллу в Южном Амалиенау. Заглянув в неё, увидел мебель из красного дерева, белоснежное бельё на кроватях, сатиновые шторы на окнах. Правда, окна были выбиты, и занавески хлопали на ветру. Пётр Иванович нашёл фотографии с женщинами и детьми – опрятными, ухоженными, как куколки. В ванной комнате на фарфоровой подставке лежали зубные щётки. На кухне стояла наполовину заполненная посудомоечная машина – Пётр Иванович о таких даже не слышал. Как не слышал про стиральную машину. В гостиной раскачивался маятник напольных часов. Гири, подтянутые прежними владельцами, ещё не опустились, и часы по-прежнему отсчитывали их время, хотя сами владельцы теперь были далеко: сбежали в несдавшиеся немецкие города или томились в безымянных могилах, вырытых по улочкам Кёнигсберга.
Петру Ивановичу стало не по себе. Он метался по лестнице, врывался то в одну, то в другую комнату. Ему было невыносимо видеть следы сытой, счастливой жизни. Жизни, которой его самого лишили. Жизни, которой у него и быть не могло.
Наконец Пётр Иванович схватил швейную машинку. Бросил её в окно второго этажа. Машинка разбилась, и Петру Ивановичу стало легче. Боль утихла, но не прекратилась. За всю войну ему не было так больно, как в тот день, когда он увидел фотографии улыбающихся немцев и услышал бой заведённых ими часов.
<...>
Тогда по всему побеждённому Кёнигсбергу били немецкую посуду, рвали немецкую одежду, отбивали головы немецким памятникам. Первые переселенцы взрывали остатки тевтонского замка, разбирали на кирпич старинные кирхи и жилые дома, выламывали из ниш гипсовые скульптуры. Дети искали в завалах пивные бутылки с фарфоровой пробкой на проволочном хомутике и били их о камни.
В прошлом году я нашла на верхнем чердаке такую бутылку с выпуклой надписью на зелёном стекле: «Brauerei Ostmark. Konigsberg рг.». Она теперь красовалась у меня в мансарде, и я иногда ставила в неё тоненький букет ромашек. Бутылку приберёг дедушка Валя. Тайком от своего папы. Когда я его спросила, зачем он это сделал, дедушка не смог объяснить. Наверное, утомился всё ломать.
Дом с деревянной чешуёй Пётр Иванович увидел лишь через месяц после того, как поселился в вилле с маятниковыми часами, и сразу в него влюбился. Мы бы сейчас жили неподалёку от библиотеки – уж не знаю, какую виллу Пётр Иванович выбрал изначально, – однако он променял аристократический Амалиенау на рабочий Ратсхоф. Хотя северную часть Ратсхофа нельзя было назвать рабочей, а в нашем доме до войны жил какой-то кёнигсбергский поэт. Пётр Иванович нашёл его книги и черновики. Сжёг их. Даже не стал читать, хотя до войны перевёл немало немецких стихов и неплохо в них разбирался.»
Таких отступлений в книге много, и я читаю их с восторгом и любопытством — на самом деле, для меня они куда интереснее, чем Олина детективная боль. Олина детективная боль в том, что кто-то прислал ей открытку, которой сто лет, а почтовый штамп ведёт то ли в Светлогорск, то ли в Болгарию (!), то ли в библиотеку в Амалиенау. В общем, пока Оля с друзьями ввязываются в расследование (делают это они довольно нелепым образом), я наслаждаюсь их повседневностью.
В повседневности они ходят (названными!) улицами, заказывают бургеры из Британники, пьют какао в Круассане, ходят за церковной выпечкой в кирху в районе, в котором я пока не была (но в следующий раз добегу); они бродят по Амалиенау, называя виллы по именам, проживают паддемию (кстати, реальность в книге показана достаточно мягко — ковид на слуху, вакцинация уже упоминается в открытках иностранных посткроссеров, но какой-то особенной жести с повесткой нет, всё заслоняет безграничная любовь автора к городу — миллион драгоценных для краеведа подробностей).
Открываю интернет: «Евгений Рудашевский — писатель, журналист и путешественник...» и далее «родился в Москве, вырос в семье преподавателей, большую часть детства и отрочества провёл в Иркутске, Улан-Удэ, прибайкальских сёлах. Любовь к путешествиям проявилась в подростковом возрасте во время многочисленных пеших походов по Байкалу, походов в горы с родителями, прыжков с парашютом. Его мать имела свою туристическую фирму, и Евгений ещё подростком подрабатывал в ней помощником проводника, сопровождая группы».
Родственная душа! Скиталец. Родился в Москве, обошёл полмира и... пишет про Калининград (не только, конечно: я посмотрела, библиография у него обширна).
Пишет с изрядной долей самоиронии:
«... я осторожно шагнула в одну из комнат. Взглянула на металлическую подставку для цветочных горшков, на крупные куски обвалившейся штукатурки. Не совсем поняла, где нахожусь, но подумала, что библиотекари могли бы устроить здесь темницу и время от времени бросать сюда очередного москвича, взявшегося писать о Калининграде.»
В общем, автор, как и я, не калининградец, но в историю региона вошёл основательно (зависть); в повседневность, в быт, во всё — так основательно, что, пожалуй... слегка чересчур.
Это только моё мнение.
На самом деле, мне было бы очень любопытно узнать, как прочитают «Почтовую станцию Ратсхоф» коренные жители города; да и вообще, мне любопытны все мнения об этой книге — если у вас есть впечатления, поделитесь, пожалуйста.
Мне показалось, что описания в «Почтовой станции» настолько избыточны, что они давят сюжет. Сюжет и сам по себе непростой, но это дань жанру: «Почтовая станция» позиционируется как книга-квест для подростков; а я всё-таки взрослый человек.
И всё же я зависаю: кто целевая аудитория этой книги?
Мне бы хотелось узнать, как её воспринимают подростки. Не кажутся ли им искусственными размышления Оли об истории города, не кажутся ли им избыточными краеведческие экскурсы? Мои вопросы без какого-либо ехидства, подтекста или желания обвинить автора (в искусственности или избыточности); я как раз пытаюсь понять, чем моё восприятие может отличаться от чужого.
Моё: местами мне казалось, что квест нарочито заверчен, включалось ощущение «не верю» (ну не бывает в жизни таких наворотов); были царапающие внимание мелочи (вроде того, как Оля, оказавшись запертой в библиотеке, около двух часов ночи захотела, простите, писать, и ТЕРПЕЛА ДО УТРА (знаете, каково это? Я думаю, её бы.. порвало несколько раньше. Ещё раз простите). Что-то было ещё такое, что не вяжется у меня с нормальным подростковым поведением.
« ...В шестом классе учительница географии вывела нас из школы, чтобы мы увидели, как после зимовки в Калининград возвращаются журавли. Задрав головы, мы наблюдали за журавлями, а учительница объясняла нам, что они отдыхали в Судане. Лазоревки и чёрные дрозды летели из Испании, мухоловки-пеструшки и славки-завирушки – из Кении. В иные дни над нашей Куршской косой пролетало до полумиллиона птиц. Подобно своим бесчисленным предшественникам, они останавливались на косе возле посёлка Рыбачий, бывшего Росситтена.
А в прошлом году я гуляла неподалёку от Верхнего пруда и сделала маленькое открытие. Улочка Братская раньше называлась Росситтен Вег, что в переводе с немецкого означало «Путь в Росситтен». Мне это показалось странным. Улочка была коротенькая, никуда толком не вела и уж конечно не выводила на расположенную за сорок километров отсюда Куршскую косу Я заглянула в карту и осознала, что Росситтен Вег, будто маленькая стрелочка, указывала прямиком на посёлок Росситтен. И ведь дело было не в её направлении – мало ли других улочек Кёнигсберга смотрело на Куршскую косу, нет. Думаю, улицу так назвали, потому что над ней тянулся один из главных птичьих маршрутов и жители её домов весной целыми днями наблюдали за многотысячными стаями. Вот уж точно, птичий путь в Росситтен. Он, как в глине, отпечатался в названии улицы, и не так важно, что сам маршрут изменился, а птицы теперь облетали Росситтен Вег стороной. Важно, что Братская молчала, а Росситтен Вег говорила, как прежде говорили другие улицы Кёнигсберга, делая город живым.»
Это размышление Оли про птиц и путь в Росситтен — оно предельно красиво. Но нормально ли оно для девятиклассницы (в книге таких отступлений не просто много, а очень много: Оля рефлексирует об истории города на каждом шагу), или оно всё же больше пристало зрелому человеку? У меня нет ответа на этот вопрос.
Мне любопытно.
По книге складывается ощущение, будто автор хочет рассказать о Калининграде ВСЁ СРАЗУ. Мне это знакомо. Я так в своё время ринулась писать про Одессу. Мне хотелось про каждую улочку, про каждый дворик — если не раскопать историю всех поколений, которые имели отношение к этому месту, то хотя бы в деталях описать подробности.
Читая Калининград Рудашевского, я долго-долго радовалась, местами впадала в восхитительный транс, а под конец... устала. Мне кажется, автор поставил перед собой две задачи, и они плохо совместимы. Первая — захватывающий квест, вторая — глубокое погружение в краеведение. Так вот, квест вязнет в описаниях города. Когда герои принимают решение или видят зацепку, действие должно катиться с горки стремительно. Читатель набирает в лёгкие воздуха, ждёт, что сейчас герои дойдут до решения загадки... и читает описание того, как дети едут в электричке в Светлогорск. Подробное. С упоминанием пригородов Калининграда, сёл, деревьев, лесов, болот, потом — на подъезде к Светлогорску упоминание нового района, потом – о решении персонажей непременно выйти в центре города, чтобы зайти в любимую марципановую лавку, потом — перечисление того, что они там купили (и непременное упоминание того, что запечённый марципан — самый вкусный), потом — с подробным перечнем улиц, с отступлением про старую/новую архитектуру Светлогорска (фахверк функциональный vs фахверк декоративный)... уже забываешь, куда, собственно, герои едут и что там ищут.
Такое ощущение, будто они и сами забывают. Добираясь до очередной точки квеста, они на месте пытаются себе объяснить, зачем, собственно, сюда приехали.
Я люблю Калининград. Я ВИЖУ, как дети садятся в электричку (кстати, непременно нужно упомянуть, что «перед отправлением забежали в «Круассан». Застряли в кафе, задержались в очереди к вокзальной рамке металло-детектора и, расплёскивая какао, помчались на двадцать третий путь, откуда открывался вид на такой белый и такой здесь неуместный собор Христа Спасителя, будто занесённый сюда ураганом из Суздаля»), вижу, как они едут, вижу, как идут по Светлогорску, потому что с автором меня роднит любовь к деталям и желание писать в художественной прозе РЕАЛЬНЫЕ места — с адресами, домами и проч., но так ли это необходимо по сюжету для подросткового квеста??
С другой стороны, книга меня восхитила и ввергла, повторюсь, почти в трансовое состояние. И всё же хочется спросить: кто её целевая аудитория и как её воспримет просто подросток — не калининградец? Есть у меня подозрение, что в какой-то момент такое «блуждание» по региону может оказаться невыносимым.
Так-то я могу «прописать» «Почтовую станцию Ратсхоф» всем влюблённым в Калининград: моменты узнавания приносят огромное удовольствие, вот этот внутренний щелчок «да, всё так и есть». Но удовлетворения от завершения квеста не будет. Потому что квест не завершается в этой книге. Это большое разочарование, на самом деле (для меня), — с одной стороны.
С другой, во второй книге персонажи отправятся — сюрприз! — в другой небезразличный МНЕ регион. В Болгарию (о которой я тоже дерзала писать, хаха, всё никак не покажу вам историю про потерявшегося в ходе русско-турецкой войны верблюда Владимира Даля).
Я пока не знаю, хочу ли я сейчас совершить мысленное путешествие в Болгарию, слишком уж сильно я акцентирована на Калининграде и области. Но второй том «Почтовой станции» обязательно приберегу для подходящего настроения.