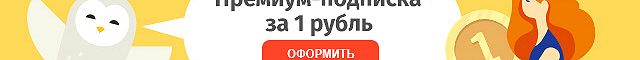
Часть вторая
4
Учебный пансион на улице Нев-Сент-Этьен был мрачным безликим зданием, затиснутым между старыми домишками, когда-то веселенькими, а теперь облупившимися; владельцы их бежали во время революции, да так и не вернулись.
Когда-то в «салонах» звенел смех, а по коридорам разносились музыка и пение, шуршание шелковых юбок и радостный перестук высоких каблучков; сильно за полночь мальчишки-факельщики мчались по мощеной улице, освещая дорогу мадам графине, которая возвращалась домой. Да, тогда здесь царила радость, пока не грянула буря; здесь звенели виола и спинет, здесь не смолкали комплименты – очаровательные, пусть и неискренние, и жужжание разговоров обо всем и ни о чем; здесь царила интригующая атмосфера пудры, мушек и масок, здесь хихикали, зажав рот ладошкой.
Пузырь этот лопнул с началом революции, наносное поверхностное изящество исчезло как не бывало; даже стены старых домов потемнели от подозрительности, провалы окон были темны, будто за каждым таился шпион: ухо прижато к стене, сам боится собственной тени.
На домах этих лежало клеймо, а по улице тянулся кровавый след – след мук и страданий тех лет, когда холодное, ополоумевшее дыхание Террора коснулось камней этих зданий, заледенив несчастных перепуганных призраков, которые там блуждали.
Когда барабаны возвестили пришествие Наполеона, а флаги превратились в знамена, летящие по ветру, в домах началось шевеление, они вроде как пробудились вновь; открылось окно, дабы запустить внутрь звуки, новый сквозняк, принесенный новым ветром, ворвался в коридоры. Однако вскоре выяснилось, что то была ложная надежда, и дома вновь погрузились в запустение. Былому веселью не нашлось пути назад; восемнадцатое столетие минуло невозвратно. Бурбоны, пришедшие на смену императору, оказались марионетками с кукольными коронами на голове, и было нечто смехотворное, почти постыдное в их попытке вновь раздуть поруганное пламя, воскресить мертвых, втиснуть услады Трианона и красу Версаля в безликий буржуазный быт восемьсот двадцатых годов. На нынешнем празднике это звучало фальшью, вынуждая гостей помимо собственного желания разыгрывать шарады. Костюмы устарели и поизносились, не осталось ни таланта, ни азарта, никому не хотелось играть.
В итоге дома на улице Сент-Этьен так и стояли обшарпанные и покинутые, в некоторых открыли конторы, другие снесли, в одном расположился склад, а в номере восемь обосновался учебный пансион, за деятельностью которого с успехом надзирала мадам Пусар.
Здесь дочери новых столпов общества осваивали немецкий, итальянский и английский, рисовали акварелью, вышивали шелком, лупили или постукивали по фортепьяно – в зависимости от ловкости пальцев, – а уединившись в дортуарах, хихикали и перешептывались, как это принято у девочек.
Мадам директриса обрадовалась, когда заручилась согласием мадемуазель Луизы Бюссон-Дюморье занять место преподавательницы английского языка. Мадемуазель Дюморье знала язык в совершенстве, поскольку детские годы провела в Лондоне. Во Францию она возвратилась в возрасте пятнадцати лет, и хотя, как и все бывшие эмигранты, она отличалась некоторой гордыней и склонна была причислять себя к исчезнувшей аристократии, все это было не так уж важно; такое можно простить. Ведь мадемуазель была такой ласковой, такой покладистой, ученицы ее просто обожали. А кроме того, у нее было отточенное чувство приличий, как и подобает гувернантке; помимо прочего, она была глубоко религиозна.
– Будь этот путь для меня открыт, мадам, – объяснила она директрисе, впервые придя в пансион, – я бы приняла монашеский обет в монастыре Сакре-Кёр. Я знаю, что только в служении Господу нашему можно обрести истинное счастье. Возможно, с годами мне удастся осуществить свою мечту. Пока же я вынуждена зарабатывать на жизнь и помогать близким. Должна признаться, что воспитывали меня не для работы, я никогда не думала, что обстоятельства вынудят меня к этому.
– Не могли бы вы обрисовать свои жизненные обстоятельства, мадемуазель?
Мадемуазель Бюссон-Дюморье (аристократическая фамилия Дюморье, вернее, дю Морье, звучит довольно нелепо в наши дни, когда владение поместьями не имеет решительно никакого значения, подумала директриса) вздохнула и покачала головой.
– Возвращение во Францию стало для нас большим разочарованием, – призналась девушка. – Отец ожидал, что нам окажут куда более существенную помощь. Стекольная фабрика, которую основал мой дед, была разрушена, замок наш лежал в руинах. Никто не желал с нами видеться, нас попросту никто не помнил. Это разбило отцу сердце.
– Двадцать лет в изгнании – немалый срок, мадемуазель, – напомнила директриса холодно.
Ее муж когда-то был комиссаром в Сен-Дени, сама она в душе так и осталась ярой республиканкой. Она не испытывала никаких симпатий к вернувшимся эмигрантам, которые бежали из страны в момент опасности, а теперь ожидали, что их встретят с распростертыми объятиями.
– Итак, вы не получили никакого возмещения? – осведомилась она.
Преподавательница английского протянула ей лист пергамента.
– Только это, – произнесла она горько, – причем ожидалось, что мы примем его с благодарной улыбкой. Нас шестеро, мадам Пусар, помимо матери, и это все, что у нас осталось за душой после смерти отца.
Директриса взяла листок и прочитала:
J’ai l’honneur de vous prévenir, mademoiselle, que le Roi, vou lant vous donner une prevue de sa biemveillance et récompenser en vous le dévouement et les service de votre famille, a daigné vous accorder une pension annuelle de deux cents francs. Cette pension, qui courra du premier janvier mil huit cent seize, sera payée au Trésor de la liste civile (aux Tuileries), de trois mois en trois mois, aprés que la présente lettre y aura été enrigistrée, sur la présentation de votre certifi cat de vie.
J’ai l’honneur d’être, mademoiselle, votre très humble et très obeissant serviteur, Le Directeur-géneral, ayant le Porte-feuille, Compte de Pradely
Paris, le 10 mai, 1816[3]
– Двести франков – это как-никак двести франков, – произнесла директриса, возвращая письмо. – Лучше, чем оставить голову на гильотине. Вижу я, вы, эмигранты, вполне неплохо устроились.
Мадемуазель Бюссон промолчала. Она думала про отца, который уехал в Англию в изгнание, оставив свое сердце в Сарте, вернулся наконец в родной дом и выяснил, что тот разрушен до основания; с тех пор он дрожал над каждым франком, чтобы прокормить семью, и наконец, надорвавшись, скончался в Туре, где служил учителем.
– А чем занимаются остальные члены вашей семьи?
– Старший брат Роберт живет в Лондоне, мадам, служит клерком в Сити. Жак работает в банке в Гамбурге. Двое младших живут здесь, в Париже, вместе с матерью, на улице Люн; именно ради них я и хочу преподавать английский у вас в пансионе.
– А шестой? Вы не упомянули еще одного брата.
По лицу учительницы английского пробежала тень.
– Да, у меня есть еще один брат. Луи-Матюрен. Увы, он пошел наперекор воле семьи и сейчас учится на оперного певца.
– Кто знает, быть может, он заработает много денег.
– Сомневаюсь, мадам. Он безалаберный, ветреный, вечно в долгах. Как вы понимаете, нам, его родным, крайне тягостно видеть, что он попусту тратит время на столь бесполезное занятие. Он сделал невозможный выбор… Бюссон-Дюморье зарабатывает на жизнь пением…
Мадам директриса задумчиво взглянула на молоденькую учительницу. Месье Пере уже стар и стремительно глохнет. Она давно поняла, что в ближайшее время придется искать ему замену. Вот если бы еще переманить к себе и брата этой учительницы… по нескольку франков за урок; ему наверняка деньги будут кстати. Да и для себя она на этом кое-что выгадает.
– Понимаю, как тяжело вам смириться с мыслью, что брат ваш пойдет на сцену, – сказала она сочувственно. – Если я составила себе правильное представление о том, как вас воспитывали, да еще учитывая, что вы ревностная католичка, вам тяжело будет вынести такой позор. Однако в преподавании нет ничего зазорного, – полагаю, вы и сами это знаете. Если бы вы сообщили своему брату, что я ищу учителя пения, – оплата, разумеется, невысока…
Мадемуазель Бюссон густо покраснела.
– Вы чрезвычайно добры, мадам, – сказала она. – Когда я в следующий раз увижу Луи, я передам ему ваши слова. Но я не вполне уверена… он слишком независим.
Директриса пожала плечами:
– Разумеется, ему выбирать. Учителей сотни, и я могу пригласить любого. Я всего лишь пытаюсь сделать вам одолжение. Всего хорошего, мадемуазель. Надеюсь, вы оцените благонравие своих учениц.
И она отпустила учительницу одним мановением руки.
«Печально, – размышляла мадемуазель Луиза, раскрывая учебник английской грамматики на девятой странице и глядя на ряды сияющих личиков, – что я вынуждена служить учительницей, чтобы не умереть с голоду на улице, тогда как другие женщины, равные мне по положению и рождению, живут в праздности в собственных замках и готовятся выйти замуж за герцога или маркиза. А Луи-Матюрен, которому полагалось бы руководить собственной стекольной фабрикой, скатился до того, что размалевывает лицо и продает свой талант за горстку монет. Нужно научиться смирению; нужно усмирить свою гордыню. Père, pardonnez-les, ils ne savant pas ce qu’ils font»[4].
– Откройте, пожалуйста, учебники, барышни. Je ferme la porte – I shut the door. Tu fermes la porte – thou shuttest the door[5]. Она произносила слова четко, правильно, старательно двигая тонкими, еще полудетскими губами; светлые волосы были собраны в строгий узел на затылке. Мадемуазель Бюссон, чье наследство свелось к двум стам франкам да пыльному графину, когда-то выдутому на канувшей в Лету дедовской фабрике, вступила на учительское поприще.
Она преуспела – не потому, что так уж хорошо разбиралась в английской грамматике и знала все тонкости глаголов и герундиев, а потому, что обладала счастливым свойством нравиться ученикам. Ей были присущи дар понимания, склонность к сочувствию, а это сразу притягивало к ней тех, кого она обучала, даже если она была чуть слишком религиозна и чуть слишком сурова; они ей все прощали из-за кроткого выражения лица, белокурых волос, ласковых синих глаз. Попала в беду – расскажи об этом мадемуазель Бюссон. Захворала телом или душой, лежит груз на совести – ничего, милочка мадемуазель Луиза возьмет тебя за руку, пробормочет молитву у тебя над головой, может быть, даже обронит несколько слезинок – и поди-ка! Все грехи отпущены, ты опять ангелочек.
Юная Эжени Сен-Жюст дала Луизе клятву в вечной дружбе, и между ними возникла неподдельная приязнь, основанная на сходстве интересов; они обменивались книгами, делились мыслями, обсуждали свое малопонятное будущее, надежды и идеалы. Такое это было счастье – возбуждать в ком-то восхищение! Дома-то жизнь неустойчивая, напряженная: денег мало, двух младших необходимо кормить, а Луи-Матюрен ведет себя как какой-то паяц.
– То, что он увлекается пением, мы не осуждаем, – объясняла его сестра своей новой подруге. – Пусть благодарит Бога, даровавшего ему такой голос, это воистину дар Небес; но в какой он вращается компании – оперные музыканты, актеры, актрисы! Мама близка к отчаянию. Роберт написал ему из Лондона, Жак – из Гамбурга, но все напрасно. А есть, Эжени, кое-что и похуже, тебе я об этом скажу, хотя даже мама про это не знает.
Юная ученица широко раскрыла огромные темные глаза:
– Ах, мадемуазель!
– Тебе я скажу, но только пообещай: никому ни слова. Эжени, мой брат стал атеистом!
Они в ужасе смотрели друг на друга – та, что помоложе, лишилась дара речи; через некоторое время учительница английского снова кивнула.
– Да, – произнесла она медленно. – Луи-Матюрен не верит в Бога.
Она посмотрела в окно, на небо, укрытое белыми облаками, и подумала: как же так могло случиться, что ее брат, который когда-то разучивал первые молитвы, сидя у нее на коленях, и за руку с ней шел к первому причастию, мог безвозвратно потерять себя и отречься от вскормившей его веры? Она содрогнулась при мысли об адском пламени, которое ожидает несчастных отступников…
Обе вздрогнули, услышав стук в дверь; учительница отложила свое рукоделие.
– Что вам? – окликнула она.
– Мадемуазель Бюссон, вас просят выйти в гостиную.
Луиза пригладила кудри и следом за служанкой отправилась вниз.
Мадам директриса встретила ее у дверей гостиной.
– Возможно, у нас будет новая ученица, – проговорила она торопливо, – барышня-англичанка приблизительно ваших лет. Она хотела бы два-три месяца изучать французскую литературу. Я ответила, что во вторник, во второй половине дня, вы располагаете временем для частных уроков. По-французски она говорит достаточно свободно, но ее мать, которая тоже здесь, постоянно вмешивается в разговор. Какой у нее ужасный выговор!..
Луиза вошла в гостиную, и в нос ей тотчас ударил назойливый запах духов; она услышала голос, проговоривший громко и отчетливо:
– Чай? Нет, увольте, это не для меня. Принесите портера, если найдется.
Извиняющееся бормотание директрисы, предложение легкого аперитива. Луиза приготовилась к худшему.
О проекте
О подписке