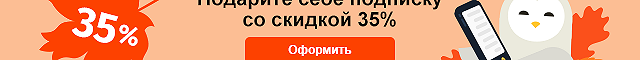
Два письма. Одно сожжено, другое не написано. Скажи, которая Татьяна?.. На это и он сам вряд ли мог ответить себе.
Послание EW было из Белой Церкви, где она находилась с семьей. Как все любящие, он прочел его медленно и пристрастно – как путник в чужом и диком лесу – ловящий на слух всякие шорохи и стуки: пугающие? обнадеживающие?.. Подпись смазана – в виде неразборчивой монограммы. (А чего он хотел?) Т. – Татьяна, Л. –Люстдорф… «…тревожит память… готова воспарить… но обязательства…» – м-гу… спасибо и на том!.. (Кстати, это Раевский придумал звать ее Татьяной – в целях конспирации! Он же не представлял – кто была Татьяна на самом деле?)
Ожидание в любви всегда больше получаемого. Письмо не утолило жажду. (Он даже вышел в темную гостиную, ища кувшин с арининой брусничной водой – и правда, пересохло горло – и что-то бормотал про себя.) Нет, не мог же он винить ее в том, что письму недоставало нежности и открытых признаний? Она и так должна была набраться смелости – отправляя его. Надо быть благодарну. Все – между строк – но и между строк чего-то недоставало…
«Как вспомню, что там не будет вас…» Он цеплялся за эти блестки истинного чувства (как ему казалось) и старался наделить их чем-то большим… Женщина – или силуэт женщины? Мерцание словес. Он тонул в этом мерцании.
Сжечь письмо? Она с ума сошла! Оно все еще пахнет ею! Тут он лгал себе. Письмо добиралось долго, на почту попало с оказией – кажется, в Харькове. Штемпель. (Кто-то ехал? Или послала слугу?..) И пахло уже только почтовыми трактами и сургучными пакетами. «Занята семьей и домом…» – Дольше других, когда листки сворачивались уже (два листка) – в огне держались эти слова! Весьма утешительно. Влюбленный в замужнюю женщину всегда невольно радуется, узнавая, что она много занимается семьей и домом. Все меньше шансов на еще какую-то случайную встречу. (А муж – не в счет, как всегда, муж не в счет!)
Да-да, все правильно! И «время вылечивает все» (кто не знает?), и «одино чество может принесть пользу важнейшую… на поприще…» Бывают такие тексты и диалоги, в которых все правильно, только… Говорить это должен был кто-то другой. Кто угодно – ты сам себе – только не она!
– Кто ей внушал – и эту нежность – И слов любезную небрежность?.. Нежности не было в письме. Что угодно – любезность – только не нежность! Он вдруг ощутил это явственно. – Кто ей внушал – и эту нежность – И слов любезную небрежность… – Я не могу понять… – Разумеется, Татьяна пишет письмо по-французски. А автор только:…но вот – Неполный, слабый перевод, – С живой картины – список бледный…
…Что-то, все же, еще брезжило в нем. Что-то двигалось – как лодка: от одного берега к другому – незнакомому. Он сознавал, что начал роман спустя рукава, заряжен случайным впечатлением. По наполеоновскому принципу: «Ввяжемся в бой – а там посмотрим!» Он помнил хорошо, как родились первые строки и имя героя. Поклонник неги праздной… Негин! О, Негин, добрый мой приятель! И вдруг, как удар, как судорога в локте: Онегин! Онегин!..: «Как Чильд-Гарольд, угрюмый, томный – В гостиных появлялся он…» Он даже поддразнивал читателя. Он никогда не боялся, что скажут – «Ну, это – Чильд-Гарольд!» – сиречь, подражанье. Или: «Это – «Адольф»! (Бенжамен Констан). Пусть говорят! Как всякий истинно пишущий он знал, что все на свете уже было (написано), и дело только в словах. Он верил в свои слова, и что, раньше или позже, они его выведут к чему-то своему, сугубо независимому.
Средь библиотеки Тригорского – разрозненные томы из библиотеки чертей – в огромном шкафу, в два ряда, попробуй сыщи что-нибудь путное, – он нечаянно обнаружил «Валери» Криднерши, как он называл – Юлии Крюденер, оба томика – забрал домой и стал перечитывать. Он знал это, конечно, еще в Лицее – когда все читали, что ни попадя… «Между тем, когда я впервые ее увидел – Валери – она не показалась мне красивой. Она очень бледна: контраст, который составляет ее веселость, даже ребяческая ветреность, и лицо с печатью чувствительности и серьезности…» – Откуда у этой немки или лифляндки такой французский? Впрочем… у нее были хорошие учителя, говорят, даже сам Шатобриан… Странно, что столь пленительная (по рассказам) женщина и писательница становится вдруг религиозной кликушей! Кажется, она пыталась соблазнить в католичество самого императора Александра. В итоге он выслал ее из Петербурга – по наущению этого Савонаролы – Фотия. Еще один православный святой! Мистики придворное кривлянье…
– Вам, государь, не повезло со страной! Ваши рыцарские замашки требовали Швейцарии. Или хотя бы – Люксембурга. Почему б вам было не получить в правление Швейцарию? Я не говорю – Францию, это опасно!
…как лицейский – он хорошо помнил царя. Лицеисты часто встречали его в Екатерининском парке: он прогуливался один – или с кем-то из придворных. Но почти никогда с супругой – Елизаветой Алексеевной. Мягкие черты и рассеянный взор… пожалуй, слишком мягкие – м-м… недостаток воли? Он не производил впечатление счастливого человека.
…Слабо эгоистическое лицо. Как он смог противустоять Бонапарту?
(Перед тем почему-то возникла физиономия конюха. Тот талдычил свое: «Почему нельзя? Обязательно можно!» Ленивая балда!)
– А-а! – молвил царь. – Это ты? Ты, говорят, пишешь неплохие стихи!
Александр поклонился в скромном замешательстве.
Кроме Фотия, говорят, там вертится еще какая-то графиня Орлова. (Из тех самых Орловых?). Это она свела царя с Фотием. Интересно бы увидеть эту кликушу нагой. Должно быть, совсем холодное тело. Жопа в пупырышках. Холодное тело, беззвучное тело!..
Александр Павлович был хорошим собеседником…
– Это ты написал оду «Свобода»?
– Я. От дурных стихов не отказываюсь, надеясь на… а от хороших, при зна юсь, и силы нет отказываться! Слабость непозволительная!
Сквозь темные призмы уцелевших листьев пестрело сырое небо. Осеннее небо в России спускается почти до земли – такое большое, такое печальное. Хотелось тепла. Причудливой новизны горных кряжей. Где каждый поворот сулит неожиданное… И моря, моря! Чтобы волны у ног, волны у ног! (У чьих?)
С Криднершей они разминулись в Крыму. Спустя три года – Скитаясь в той же стороне… Она приехала в Крым, он слышал – года на три позже его. И умерла где-то в Кореизе – в начале уже этого года. Во втором томе книги он нашел чью-то надпись: «Мадемуазель Ольге Алексеевой. Увы, одно мгновение, одно единственное мгновение… всемогущий Бог, для которого нет невозможного; это мгновение было так прекрасно, так мимолетно… Чудная вспышка, озарившая жизнь, как волшебство…» Кто это писал, кому? Кто-то. Который тоже любил! Он отчеркнул ногтем то место в книге, когда в Венеции, на мосту Риальто, граф М. – муж Валери – при де-Линаре выражает свой восторг перед какой-то женщиной, тем самым как бы сомневаясь – в красоте своей жены. «Ну, да… Валери молода, у нее живая физиономия, но ее никогда не заметят!» И де-Линар страдает от этого. Прекрасно! И как натурально! «О, Валери! Насколько больше любил бы я тебя!» – Вот это – это самое!
Он начал размышлять о романе вообще. – «Не роман, а роман в стихах – дьявольская разница!» – повторял он про себя, хотя и плохо представлял пока – что это за разница. Теперь казалось, что самой мысли о «рано остывших чувствах» и «преждевременной старости души», одной лишь встречи – души невинной с душой перегоревшей – этого мало, мало! План романа по-прежнему смущал его. Конечно, лучше стихи без плана, чем план без стихов, но… Он был в положении человека, который, облекшись в непривычные одежды – не знает – куда девать руки, походка как бы не та…
Роман воспитания? Странно, но последнее время он все меньше тянулся к Байрону! Больше к Гете и Шодерло де-Лакло.
Мефистофель не способен стать учителем в чувстве, он лишь насмешник – над человеческой чувствительностью. Он сам не разочаровывался никогда – ибо никогда не был очарован. Что за стремление погружать других в пучины собственных разочарований и бед? (Он снова и снова вспоминал Раевского.) – «Сноснее многих был Евгений – Хоть он людей, конечно, знал – И вообще их презирал – Но (правил нет без исключений) – Иных он очень отличал – И вчуже чувство уважал»…
– Почему мужчины так склонны учить чувствованью других, менее опытных, необстрелянных?.. Женщинам это меньше свойственно, хотя… (Но довольно ли он знает женщин?) А госпожа де-Мертей? («Опасные связи».) Нет! Там, скорей, обмен развращенностями – не опытом. Французы явно почитают область чувств своим национальным достоянием! Как виноградную лозу со склонов в провинции Коньяк! Природа чувства столь тонка, по их мнению – что может возникать, лишь как клекот в горле галльского петуха – со всеми там вибрациями и модуляциями.
Почему вообще люди любят внушать другим собственное разочарование?..
– Но ты, как выяснилось, еще и афей! Это совсем уж никуда не годится!
– Ваше величество, как можно судить человека по письму, писаному к товарищу… да еще в определенном настроении… школьническую шутку взвешивать, как преступление, а две пустые фразы – как всенародную проповедь? Был момент – я усомнился в одном из положений религии…
– В каком?
– В существовании загробной жизни. Это не называется афеизмом. Оттуда ж никто не возвращался – дабы подтвердить…
– Что делает там Раевский? Но он же – ее кузен, брат!.. Хотя… кузен – не совсем брат!.. («Она, к сожалению, без памяти влюблена в моего сына. Заметили? Что они там делают – вечно вдвоем? Она, считается, его кузина, но…» – вставляла Прасковья Александровна из Тригорского.) Какое-то множественное «мы» изнутри подтачивало письмо! «Мы гуляем, мы вспоминаем…«Чего же больше там – гуляний или вспоминаний?.. Впервые сомнение коснулось его. Нет, конечно, он знает друга, он верит. Пусть холодность, мрачность… презрение ко всякой романтике… пусть! – но дружба? («Он верил, что друзья готовы – За честь его принять оковы… – Что есть, избранные судьбами – Людей священные друзья…»)
– В загробной жизни? В этом я тоже сомневался. Я и сейчас… Молчу! Если б ты знал, как много я сомневался в молодости! Теперь за это надо платить…
Одно сожжено – другое не написано. Болталось несколько строк в проза ическом изложении – да и тех он никак не мог найти. (Он записал их после Пскова.) «Я знаю, что вы презираете… Я долго хотела молчать – я думала, что вас увижу. Придите, вы должны быть и то, и то… Если нет, меня бог обманул, и…» Что-то в этом роде. Чушь какая-то!
Письмо девушки – к тому же семнадцатилетней, к тому же влюбленной!..
Схолия
Есть в Первой главе «Онегина» две строфы, которые и сейчас кому-то кажутся избыточными, чуть не лишними. «Роскошеством» автора. Меж тем, они имеют особый смысл и очень важный!
XXXIII
Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста младых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!
XXXIV
Мне памятно другое время!
В заветных иногда мечтах
Держу я счастливое стремя…
И ножку чувствую в руках;
Опять кипит воображенье,
Опять ее прикосновенье
Зажгло в увядшем сердце кровь,
Опять тоска. Опять любовь!..
Но полно прославлять надменных
Болтливой лирою своей;
Они не стоят ни страстей,
Ни песен, ими вдохновенных:
Слова и взор вошебниц сих
Обманчивы… как ножки их.
Эти две строфы, следуя одна за другой – обнаруживают главную особенность композиции романа. «Все в жизни – контрапункт, то есть противоположность» – говорил М. Глинка. – Если вдруг задаться целью разделить этот текст, как в хоре, на голоса героев книги, тем самым превратив его в драматический – первая строфа будет несомненно звучать «на голос» Ленского, а вторая – Онегина. Но обе при этом принадлежат третьему персонажу – Автору как герою романа. «Пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская разница…»[12]
В Тригорском он привязывал коня к дереву – в парке, внизу – бросал на ходу кому-то из слуг, чтоб покормили – и почти взбегал на холм. В доме часто его уже ждала сестра Оленька и смотрела с беспокойством. Он был мрачен и мрачность невольно разливалась вокруг. Она тоже чувствовала, что гроза в их доме вот-вот грянет – и была напугана. Иногда ему хотелось поделиться с ней. Просто рассказать – как все было. От чего он бежал – то есть, его заставили бежать из Одессы. Что оставил в степи – в немецкой экономии Люст дорф… Но иногда, даже хочется открыться – да язык присыхает и никак не произнесть первых слов…
– Насколько больше любил бы я тебя! – Т. – Татьяна, Л. – Люстдорф… Скажи, которая Татьяна?… Нет, ты – не Татьяна, ты – другая!.. Теперь он не был уверен – он сам не знал, где кто, кто где. Две пары женских ног ступали за ним – и пришли сюда, и блуждали неприкаянно – среди мокрых осенних трав и повядших желтых листьев и стайки юных женщин, которые были не нужны ему. «…только вряд… найдете вы в России целой – Три пары стройных женских ног!..» И одни ноги были длинны и нежны… так, что страшно прикоснуться, а другие… сама полнота бытия! – Я думал, что умру – от аневризмы или в дуэли… а, кажется, умру от твоих икр!.. – сказал он ей или только собирался? – он не помнил.
Он повыписал из Петербурга, сразу по приезде – множество модных нот, и теперь был сам не рад: девчонки бойко разыгрывали все это на невысоком плоском фортепьяно, порядком расстроенном, бренчали – соревнуясь меж собой и заставляя себя слушать. У него был хороший слух, и он тихо зверел и улыбался наружно. Разыгранный Моцарт иль Диц – Перстами робких учениц… Он вспоминал, что было, когда Она садилась за фортепьяно. Нельзя, конечно, сравнивать жену наместника, потомицу гетманов польских – добрый десяток лучших учителей – с провинциальными русскими девочками, хоть тоже – польских кровей – несправедливо! – но он не брал себе патентов на всеобщую справедливость!
«Почему она поет так страстно, если сердце ее не знает любви? Откуда берет она эти звуки? Им учит страсть, а не одна лишь природа…» – он отчеркнул это ногтем. Дважды…
Переживший и не раз любовь неразделенную – он тяготился, как все мы, когда внушал ее сам. Аннет! Вот, и красивая девушка – и… Очевидно было, что она влюбилась в него – но выражалось это дурно. Она допекала его слежкой за ним… – Александр, вы уже вымыли руки? – Александр, вы без салфетки! – Вы еще не отведали моего варенья!.. А ему все мешало, что не было Одессой, Люстдорфом, морем… и ожиданием письма. Зачем вы посетили нас – В глуши забытого селенья – Я никогда не знала б вас… – Но вернемся к оде, – говорил царь Александр своему тезке – тоже Александру. Ты там осмелился трактовать некоторые вопросы, которые…
– Что ода, государь! Это – детские стихи. Всякое слово вольное или противузаконное приписывают мне, как все непристойные стихи Баркову. Между прочим, достоверно известно, что знаменитый «Лука Мудищев», прошу прощения, – сочинение вовсе не его. Я бы мог предложить вашему вниманию «Руслана и Людмилу» – хотя бы только песни Первую и Шестую, если уж время не позволяет вам прочесть все. Или первую часть» Пленника». Или «Бахчисарайский фонтан»…
…У Аннет, к тому ж, была ужасная манера с важностию прорекать общеизвестное.
При ней называли: – Байрон. Она переспрашивала: – Джордж Гордон? Или – Моцарт… – Вольфганг Амадей?.. Он глядел на нее – в глазах ее было что-то жалкое, как бывает у человека – неспособного, при всех усилиях – шагнуть за какую-то преграду: Поверьте, я молчать хотела – Поверьте, моего стыда – Вы не узнали б никогда – Я с ним бы умереть умела – Когда бы даже в месяц раз – Незамечаемая вами…
Речь шла об осенней ярмарке в Святых горах, и каких товаров там можно ждать нынче.
– Представляю… Опять съедется весь новоржевский бомонд! – морщилась Прасковья Александровна.
– Что делать? – вступала Аннет. – На ярмарку всегда съезжается много народу – из разных мест, всем нужно что-то купить – на то и ярмарка!
– А «Фонтан» – это о чем? Я, как бабка моя покойная, императрица Екатерина – любитель фонтанов.
– Поэма о любви, ваше величество!..
– А-а… о любви! А разве она существует на свете?..
– И скоро еще выйдет «Онегин»… первая песнь! Я с удовольствием… на суд вашего величества… в библиотеку… Иван Андреевич Крылов… два экземпляра!..
– Александр, давайте померяемся талиями! – изрекла вдруг Евпраксия-Зизи, в головку которой всегда лезли самые необыкновенные мысли.
– То есть, как?.. – смутился Александр, которого не так просто было смутить.
– Обыкновенно! – сказала Зизи и откуда-то достала материн портновский метр. Прасковья Александровна несколько увлекалась шитьем. Хотя, странно… шила обычно только для себя. Для девочек – заказывала… Евпраксия у всех на глазах обмерила себя – зачем-то сперва бедра, почти детские еще – а потом талию. Талию – особенно серьезно… Мать хотела прервать это не совсем приличное действо – но улыбнулась – и не стала. Пусть себе! Нижняя губка ее вздернулась и застыла чуть горько – точно в зависти молодой свободе. У девчонки такая талия – что она может позволить себе!..
– Ладно! – сказал царь. – Ты мне вот что скажи… Как вышло, что ты легко сдружился с Инзовым и не смог ужиться с Воронцовым?.. Который, считается, уж такой либерал!..
– Ваше величество, генерал Инзов – добрый и почтенный старик, он русский в душе, он не предпочитает первого английского шалопая всем известным и не известным своим соотечественникам!
– … еще могли быть некоторые причины, чтоб ему не хотелось тебя понимать – не так? Голос Элизы был нежен. Экипаж удалялся к Одессе – в никуда, колеса постукивали: жизнь-смерть, жизнь-смерть.
Но… как всякий молодой человек – да и не только молодой – просто влюбленный – Александр не способен был ни на минуту взглянуть на все глазами Воронцова. Могли быть причины, не могли – какая разница? Ему нужна была ее любовь – вот все! Ему не хватало любви!
Граф так верит ей, так легко покидает ее – оставляя ее, Валерию с де-Линаром! Но тот граф – не этот! «И, однако она прикасалась к его груди, он вдыхал ее дыхание, ее сердце билось рядом с его сердцем, а он оставался холодным как камень… Как, – говорил я себе, – в то время, как за один ее поцелуй я заплатил бы всей своей кровью, но он не ощущает своего счастья…» Он попытался представить себе надменного чиновного Воронцова – вечером, в халате… домашним, расслаб ленным, может, даже – ласковым? Обнаженный Воронцов! У него сводило горло. Наверное же, он что-то говорит ей? Должен говорить! Увядший, стеснительный? Возможно, и она что-то… Кричит, шепчет… Возможно, те же слова! Невозможно, невозможно!..
– Теперь вы! – сказала Евпраксия властно – и обернула его метром. Александр ворочался послушно.
– Не может быть! – воскликнула Зизи, – еще раз без стеснения обмерила его. При этом полудетский живот ее совсем уперся в него…
– Что – не может быть? – спросил Александр.
О проекте
О подписке