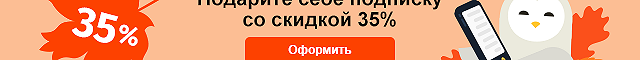
Прошумели на ветру и стихли платаны, безлистные, словно проржавелые – на бледных, обвислых, как плети, ветвях, распушивались красно-рыжие серёжки.
Я медленно шёл к мосту Гарибальди, всё отчётливее виднелись театральные декорации острова Тиберина, похожего на сказочный, севший на мель линкор.
Плотность, с какой сконцентрировались художества во внутреннем дворе палаццо Фарнезе, недавние кружения окрест Пантеона, держали всё ещё в напряжении все мои чувства, но засветились голые белёсо-пятнистые стволы, заблестела вода, покачивая серебряное высоченное небо… высыпали к Тибру дома, те, что подальше, повыше, живописно рассыпались по яникульскому склону.
На ходу оглянулся. Нет, фантазия моя сплоховала, над мостами, на фоне уплывавшего влево, за холм, купола Святого Петра, не возник воздушный коридор Микеланджело; небесное серебро впитали камни, сгустили? – из тусклого серебра были отчеканены мосты, и уплывавший влево соборный купол, и фасады вдоль набережной, и замыкавший перспективу via Giulia, помечавший крутой изгиб Тибра куполок церкви, возведённой для себя флорентийцами, в ней упокоился по прихоти судьбы Борромини… приютили самоубийцу… На другом берегу виднелись угол Фарнезины, крыша палаццо Корсини.
Не вернуться ли к мосту Систо и свернуть в Трастевере? Почему бы после палаццо Фарнезе не подивиться опять сокровищам Фарнезины?
Шелестяще налетал, срывая серёжки, ветер.
В воде зыбились отражения ветвей.
Лень было решать – возвращаться, не возвращаться – я машинально шёл к мосту Гарибальди, удалялся от Фарнезины.
Рим избежал барабанного боя классицизма, ему вообще чужды массивные ансамбли нового времени, какими хвастливо обзавелись Вена или Париж? Ансамбли, которые реорганизуют, подчиняя себе, а то и подавляя, окружающие пространства? Собор Святого Петра – по сути замкнутый ансамбль самого собора, расширенный и, в замкнутости своей, завершённый симметричными дугами колоннады, едва ль не основное символическое назначение её – заключать в совершенную форму слитную массу людей, когда они заполняют по церковным праздникам площадь, отделённую от мирской суеты и скверны слоем непритязательных случайных домов. А барочный трезубец, Tridente, как восклицают римляне? И тут всё – вразрез с учебниками градостроительного искусства, по-своему. Три уличных луча уводят из пространственного ядра Рима: площадь Пополо прижата к средневековым крепостным стенам, за Фламиниевыми воротами, чью воздушную арку, сходясь, прокалывает трезубец – дубравы и пруды с лебедями виллы Боргезе. Да! И – опять, будто мне не хватало немедленного зримого доказательства, оглянулся, убедился, что купол уплыл за холм – собор Святого Петра тоже на самом краю города, за ним лишь ватиканские сады, виллы. Главные ансамбли – на выселках?! Но выросла симметричная беломраморная громадина в перспективе Корсо, в противоположной от площади Пополо стороне. Взрывной выброс патриотизма окаменел, уличный трезубец, привычно уводивший и з, привычно целивший в арку Фламиниевых ворот, теперь, обнаружив цель сзади, пронзает ещё и ступенчатое, многоколонное, подавляюще-огромное диво центральным своим лучом. Новое время настигло своевольничавший до сих пор Рим? Памятник объединительному экстазу сдавил сердце его, Капитолий. Спесивая попытка отменить неписаные предпочтения, подчинить осевому ансамблю свободный город?
Вот и мост Гарибальди.
Может быть, свернуть всё-таки в Трастевере?
и тут
Меня окликнули по-русски. – Илья Маркович, вы? Невероятно!
Действительно невероятно! – передо мной стоял, улыбаясь, Тирц; он наклонил голову и галантно приподнял шляпу.
не переводя дыхания
Достал вложенные в тетрадь копии писем. Гм, качество копий, действительно, так себе; едва различимая шапка на бланке отеля «Консул», дату не разобрать… а-а-а, всё-таки разобрал.
Рим, 31 марта 1914 года
Гурик!
Заканчивается моё сентиментальное итальянское путешествие. За перипетиями его, если была охота, ты мог следить из Петербурга по письмам, которые я исправно посылал Соне, но недавно повезло выведать твой Тифлисский адрес, сиё учённейшее послание, надеюсь, поспеет как раз к началу твоего отпуска и…
Так, дальше.
Извини, Гурик, за сбивчивость, вроде бы необязательные, но, поверь, упрямо цепляющие перо подробности. Пишу по свежим впечатлениям прелюбопытной экскурсионной поездки с Тирцем, не удивляйся – столкнулись нос к носу в Риме. Ты-то ещё по гимназии знаком с разнообразнейшими талантами и познаниями, причудами и ужимками неистового Петра Викентьевича, а я прежде встречался с ним от случая к случаю, в основном за покером, наши отношения карточных соперников – с шуточками-прибауточками он однажды едва не спихнул меня в долговую яму – бывали, мягко сказать, натянутыми, Тирцевский азарт, вспыльчивость, острословие, сполна явленные за зелёным сукном, не выдавали страсти к приключениям в лабиринтах искусства, и – уж точно! – не могли объяснить необузданности его вдохновения и лихости за рулём авто.
Так-так.
Я знал, что Тирц в Риме, стоял даже в задних рядах слушателей на его дерзком, огульно ругавшем подражательность русского искусства докладе на вечере римских петербуржцев, но не хотел…
Так-так, про тот скандальный вечер уже начитан, дальше.
В Риме я упивался одиночеством, намеренно не заводил знакомств, поселился в тихом «Консуле», а не в прославленной соседней, через два дома, ближе к площади Пополо, гостинице, обители иностранных путешественников, после экскурсий назойливо делящихся своими восторгами – я благодарил судьбу за то, что могу смотреть и видеть, обдумывать увиденное, не отвлекаясь на пустые светские беседы, однако внезапная встреча вывела меня из созерцательной отрешённости, которой я, рискуя разучиться говорить, признаюсь, всё же подспудно начинал тяготиться, поездка с Тирцем в Орвието дала острую пищу уму…
Соснин пропустил ещё с полстраницы.
Орвието, крохотный городок, уместился со своими монастырями и сонными запущенными дворцами на почти отвесной, вулканического происхождения, коричневато-ржавой скале – взбирались по серпантину, петли покруче крымских. Первоначально мы хотели ограничиться осмотром главной достопримечательности городка, воздушного готического собора с белокаменным стрельчатым лицевым фасадом, засмотревшимся на тесную площадь, с сине-золотистыми мозаиками, кружевными рельефами на лицевом фасаде и фресками Лукино Синьорелли внутри, в капеллах и нефах – печаль, нежность синих и голубых оттенков, невесомость фигур. В одной из капелл – «Осуждённые», заставившие меня вспомнить о микеланджеловском «Страшном Суде». А в поперечном нефе нас поджидал уже совсем не страшный Апокалипсис с известняковыми просветами на розоватых телах и пепельно-сиреневом небе. Однако не одним собором жил Орвието, вулканические породы не только угрожали собору оползнем, но и, как возвещал аляповатый плакат близ соборной площади, были благотворными для лозы, мы, беспечные искатели удовольствий, получив ночлег в простенькой, по-деревенски милой гостинице, соблазнились дегустацией, вовсе не аптечными дозами, белых вин, издревле – теперь замечу, вполне заслуженно – ценимых по всей Италии.
Ну как, Гурик, не надоело? Терпи, дорогой.
Итак, Гурик, мы на веранде грязноватого кабачка, на столе – яблоки, блюдо с козьим сыром, травами, вялеными маслинами. Напротив веранды – дремлет необитаемый, сложенный из коричневого туфа дворец, измученный переходом от ренессанса к барокко. Налево, к зазеленевшему вдали горному склону с пылевым облаком масличной рощи, тянется, искривляясь, улочка, справа, в перспективе другой улочки белеет увенчанный пиками и стрелами угол собора.
– К чёрту серьёзность, не терплю художников в футляре, – шутливо резюмировал впечатления от соборных фресок Тирц, всё ещё мысленно любуясь прозрачными, расплывчатыми, сине-голубыми мазками, розоватой бесплотностью наготы, – не зря мы сопротивлялись напускной серьёзности Синьорелли, поняли то, что он от нас так искусно пытался скрыть: настенные изображения, будь то чудеса антихриста или дантов хоровод потерянных грешных душ, призваны ласкать глаз, подобно обоям с тюльпанами, птичками… Поняли, и теперь…
Просветлённые провинциально-наивной готикой, облачными фресками, мы с лёгкими сердцами предавались питейным радостям – осушая слезливые стаканы, отодвигали на потом початую бутылку, пробовали из новой, за каждой словоохотливый кабатчик, деловито надевая вытертое пальто на рыжем меху, спускался по каменным ступеням глубоко-глубоко под землю, говорил, в старинные катакомбы, где бутылки хранились в прохладе среди скелетов. Тирц чутким памятливым носом улавливал ароматическое родство орвиетских вин с пьемонтскими, впрочем, после долгих сопоставлений мы сошлись на том, что лучшие в мировом меню ординарных вин, и впрямь, итальянские, а в конкуренции дорогих, отборных сортов, конечно, первенствовали французские. Сии вакхические банальности подвигли, однако, Тирца на искромётную лекцию о суливших демонические галлюцинации и бурления крови красных испанских винах, кои он досконально знал, – именно знал, не любил! Из козней тамошнего солнца и винограда он выводил экзальтации горячего, если не горячечного иберийского католицизма, жестоких страстей его, крестом осенённых: географических захватов, испепелений ереси; а художнический жар, пылкость? – и ну нахваливать одному ему известного набожного и безумного зодчего-каталонца, увы, имя растворилось в винных парах. Потеплел, потом вспыхнул коричневый дворец, черепица на дальних крышах занялась оранжевым пламенем, но мы как пили, так и болтали, перескакивали от темы к теме. Пьяный язык не только разоблачал трезвый ум, являлись прихоти мысли, её извивы, круги. Тирц с хрустом надкусил яблоко… следуя за Соловьёвым в стремлении раздвинуть завесы видимостей, он рассыпался в похвалах недавно открытому им французскому сочинителю-бергсонианцу, который любой свой эмоциональный, интуитивный позыв, возвращавший в прошлое, воплощал в волшебной словесной вязи. Восхваления сочинителя, едва издавшего свой первый роман, никем, кроме Тирца, как понял я, не отмеченный, зато внушительно-многословный, перетекали в невразумительные пересказы прочитанного, свидетельствовавшие, на мой взгляд, о заслонении мира новыми завесами, новыми словесными видимостями, но как бы не увлекался сам, как бы не распалялся Тирц, он не спешил убеждать, просвещать, лишь с помощью безвестного сочинителя-парижанина выговаривал свои мироощущения, смешивал и перемешивал их, чтобы получать поводы снова и снова извлекать из невообразимой мешанины обрывки ранее сказанного, пытаться бегло намеченное домысливать, развивать, уточнять. Складывалось впечатление, что за винопитием на фоне собора он лишь распевался, пробовал голос, ничуть не смущаясь, когда давал петуха. Нет нужды добавлять, что я не ошибся – главные арии были впереди.
Так-так, ну и письма тогда строчили!
Мягкие краски заманивали вглубь Умбрии, звали поломать первоначальные планы, повернуть к Ассизи, хотя и я, и Тирц там уже побывали прежде и успели всласть обсудить чудо-город, обнесённый мощными стенами, спящий на склоне холма, рассечённого вдоль склона прямыми длинными улицами с темноватыми средневековыми домами и суровыми соборами, словно готовившими взгляд к встрече с главным пространственным и символическим узлом города – сопряжёнными воедино верхним и нижним храмами. Поперёк холма проложены узкие улочки с лестницами, поднимаясь или спускаясь по ним, натыкаешься сплошь и рядом на неожиданности; выходишь к романской ли базилике, башне ратуши с примыкающим к ней античным, отлично сохранившимся портиком храма Минервы. Гурик, обрываю себя, всё это надо своими глазами видеть. Вот и нам захотелось, раз уж мы заехали в Умбрию, увидеть Ассизи вновь, но…
Так-так.
Прежде, чем вернуться в Рим, мы намеревались также заехать в Витербо, цитадель пап, однако сильнейший грозовой ливень накануне размыл горбатую дорогу, путь нам преградил утонувший в грязи допотопный дилижанс, и, почертыхавшись, Тирц дал задний ход.
Так-так-так.
– Смотрите, смотрите! Рим – это невиданное ристалище эпох, где ещё язычество и христианство сшибались в столь безжалостной плодотворной битве? И языческий Рим не повержен, нет, поле эпической битвы усеяно символами торжествующей утончённости, выброшены щедрые побеги в новые времена, вот, гениальное озарение римлян, арка. А Пантеон с посулами высокой бездны? – образный поток света непрестанно орошает наши души из круглого окна в небо! – выпаливал Тирц. – Гляньте-ка, гляньте на руины! – худющая рука обводящим жестом вылетала за приспущенное стекло авто в палевую пелену зноя, – века сбросили с капителей обузу балок, фронтонов, каменные цветы на длинных стеблях потянулись к солнцу. И незачем теперь запоздало кланяться Винкельману, наново возрождать романтическую эстетизацию руин, глотать слёзы в жалостливых умилениях порушенными красотами. Символические цветы, которые взметнулись над останками античных стилобатов и зарослями шиповника, вдохновляют уже на эзотерические прорывы в красоту как высшую целесообразность! Долой путы, догматы, долой вековечное иго трёхчастного трюизма Витрувия! – поигрывал рулём Тирц; мы огибали имперские форумы, оплавленные предзакатным огнём.
Возвращение из Орвието едва не доконало меня – мутило на зигзагах узкой дороги, во рту першило от пыли. А Тирц немилосердно изводил красноречием, от острых, злых суждений его касательно зодчества ли, выморочной нашей истории поначалу бросало в оторопь, но вскорости сомнения в проницательности столь переперченного ума побивал певческий дар внушения. С нескрываемым наигрышем он повышал или понижал голос, менял интонации, тембры, сотрясался от клокотанья праведного гнева в хилой груди и вдруг принимался хихикать, будто изнутри щекотали. Стоит ли удивляться, что я, угодник всякого лицедейства, покорно нацепил маску простака и развесил уши? И повторюсь для полноты картины: разнозвучные филиппики свои он снабжал комичным гримасничанием, взлётами костлявых рук – баловень салонов, словно витийствовал у камина, а не правил в горах машиной – свою жизнь, вкупе с жизнью квёлого пассажира, он безбоязненно доверял судьбе.
– Нет, я не фаталист, – ёрничал Тирц, – но уже и не смиренный католик, молитвенно ждущий, когда пред ним отворят врата небесного царства, – припомнилось Анино с Костей венчание, нахохленный, птичий силуэт Тирца в костёле на Ковенском… куда там! Непревзойдённый оригинал, он, тепло принятый в ватиканской курии, Пия Х, аудиенции которого удостоился, называл презрительно мозгляком, а сам мечтал о церкви, где когда-нибудь породнились бы ересь и ортодоксия; пока же в мировой столице католицизма надумал поклоняться экзотическому божку, эдакому гибриду Будды с Марком Аврелием. Для вящего эффекта Тирц, не сбавляя скорости, повесил на указательный палец чётки и медленно потягивал цепочку, дабы я зримо ощущал соскальзывание будущего в настоящее, затем – в прошлое, тогда как, пояснял, настоящее, то бишь палец, пусть и при механическом перемещении по Вечному городу, недвижимо, постоянно, стало быть, только настоящее есть реальность, в ней и надлежит жить. После представления наглядной формулы новейших верований ловко подхватил руль, круто свернул и затормозил у внешне невзрачной, но давно, как признался, облюбованной им таверны, дабы и я отведал, – усмехнулся он, – пиццу богов.
– Долой априори! – мы уселись за стол, накрытый красно-белой клетчатою клеёнкой, тучный повар взялся мять, раскатывать тесто по мраморному прилавку. – Долой, долой! – вскипал Тирц, велел, не мешкая, откупорить… и – предупреждал. – Итальянскому простолюдину ли, аристократу-гурману пицца подаётся исключительно для начала, чтобы грубо утолить первый голод, лишь затем… я вспоминал, что и кавказские застолья начинались с горячего, размером с большую сковороду, круга хачапури. Затем Тирц рекомендовал непременно распробовать тортеллини со спаржей, но, разумеется, после клёцок, картофельных клёцок под острым сырным соусом, и обязательно, – подзывал официанта, – обязательно руколу, сладковатую, пахучую, с пармезаном; жадно отпивал Bardolino, терпкое, маслянистое.
– Растущие из руин античности, доросшие до наших дней колонны-бездельницы не только освободились от повинности симулировать борьбу с тяжестью, сие вдохновляющее раскрепощение освободило и якобы строгих эллинов, прародителей прекрасного, от неподъёмных тектонических умыслов, которыми и спустя тысячелетия их привычно нагружали легионы тупиц от искусствоведения, – Тирц вернулся к дорожной, исчерпанной, как я ошибочно думал, теме. – Пока, – он плотоядно запихивал в изгибистую щель рта ломоть обжигавшей, сочившейся томатом лепёшки, – пока витрувианская метода насаждала отформованный в сопротивлении мраморной тяжести канон, утончённые римляне творили изысканнейшие чудеса поверх скучноватых правил. Они видели в колонне прежде всего символ опоры и лишь затем – самою опору, символу не пристало тужиться! Не обращали внимания? – примелькалась прелестная римская тавтология, колонны на пьедесталах, чем не памятники символам, символы символов? И сама колонна зачастую превращалась в пьедестал для скульптуры, вознося её к небу, заметили? – близ Испанской лестницы восславили догмат о непорочном зачатии. А триумфальные колонны Траяна, Аврелия возносили к небу не только фигуры самих императоров, но и восславлявшие их лепные послания, – прожевал, проглотил, – вырос лес вариаций… Вандомскую колонну вслед за римскими её прототипами запеленал спиральный рельефный свиток, зато Александринский столп вполне самобытен; гранитный исполин, вонзившийся в облака, невиданно-мощная опора для ангела с крестом – пролетал, коснулся ступнёю куполка над абакой. Правда, ещё раньше, в барокко, с символикой научились играть как с чистой абстракцией – что, кроме символической нагрузки, несёт мощная четырёхрядная колоннада Бернини? Но теперь-то, только теперь, когда столько художественных изысканий осело в памяти, символическим весом мы, изощряясь, нагружаем и случайные колонны, торчащие из руин, просто-напросто выжившие в исторических передрягах, специально не замышлявшиеся в качестве памятников! И в них, утративших опорные функции древних колоннах, главный для нас урок. Терпеливые века-разрушители старались, обнажали для нас, бесчувственных тугодумов, упрятанную под хвалёными масками трепетную суть красоты. Сохранись целёхоньким, Афинский акрополь не заслужил бы сумасшедшего поклонения. Да и скульптура антиков христианские души разбередила утратами: безрукая Любовь, безголовая Победа…
– Не пора ли воздавать хвалу туркам за пороховой склад в Парфеноне? – не смог я не отозваться.
О проекте
О подписке