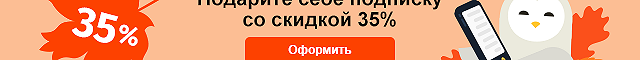
Но, бывает, пухлых знойных раскрасавиц умыкают не в Сочи, а тут же, на аллее чудесного, орошённого солнечными лучами парка, которая тянется от автостоянки у полукружья розовой колоннады к пруду с чёрными лебедями, пеликанами и очаровательной, будто скопированной с подкрашенной японской гравюры, фоновой бамбуковой рощицей. Умыкают заблаговременно, днём ещё, пока экскурсовод вдохновенно расписывает деяния родича царя, чудака принца Ольденбургского, превратившего малярийное болото в цветущий курорт и разбившего здесь, на гиблом месте, этот дивный дендрарий-парк. Потом он показывает вкрапленные в кудрявый склон сказочные домики-пряники с башенками и красными крышами – из этих домиков любовались когда-то морскими далями приживалы царской семьи и прочие бывшие, давно умершие или убитые… И уже без попутных раскрасавиц, легкомысленно ублажавших сборную экскурсию заливистым смехом и оголёнными формами светлогривых львиц, двигает после парковой передышки на Рицу кавалькада голубых открытых авто с нестерпимо горячими, смрадно дышащими радиаторами. И зияют бреши на кое-как затенённых мотающимся парусиновым тентом протёртых кожемитовых сиденьях, и, громоздясь на своём отдельном, возвышенном месте, привычно зажав тяжеленную треногу между коленями, прикидывает убытки от беспутных беглянок сопровождающий экскурсию фотограф… Но где бы ни захватывали свою соблазнительную добычу всемогущие кавказские боги, по обыкновению – странная традиция! – празднующие упоительные знакомства на доступной всем взглядам демократичной веранде с лазоревым деревянным барьерчиком, назавтра вечером, накануне расставаний с клятвами в верности до гроба и жаркими поцелуями, они, не боясь умопомрачительных счетов, закатывают прощальные банкеты с купленными музыкантами и лезгинкой под занавес непременно в высоком, торжественном, как неф собора, «Гагрипше», где столы с словно вылепленными из цветного воска грушами, персиками, обложенными прозрачно-розовым виноградом, свисающим из плоских, приподнятых над остальными блюдами ваз, заказываются в торце зала, поближе к вычурному витражу с фантастическим видом на глицериновое море и луну, которая беспомощно застревает в циферблате и стрелках затейливо вкомпонованных в стёкла и изгибистые переплёты часов.
Дабы ощутить длительность, Анри Бергсон рекомендовал проследить, не отрываясь, за тем, как тает кусочек сахара в стакане чая.
Вряд ли желая отравить этим простецким, с уклоном в натурфилософию опытом приятное чаепитие, лукавый интуитивист-идеалист тем не менее, как кажется, намекал, что даже безобидное наблюдение за ускользающим объектом – или процессом? – выльется в душевное страдание, ибо слежение за убыванием сладкого кирпичика того и гляди подскажет, что в любом моменте своего дления время и из нас вымывает молекулы жизни, вымывает, оставаясь незамеченным и не оставляя улик.
Не убеждён, что в испытании, предложенном Бергсоном, содержалась недвусмысленная оценка мокрых дел времени, которое не знает морали и тихим преступлениям которого попустительствует принятый раз и навсегда надмирный закон.
Но я подумал, что благодаря бессрочной индульгенции и статусу невидимки время творит свой жестокий суд не таясь, открыто, хотя по сути – с изворотливостью убийцы, растворяющего жертву свою в ванне с серною кислотой.
Покружив по асфальтовой плеши-площади, насмотревшись на чужой праздник, который стал общим праздником, остаётся занять поскорее шаткий столик под разлапистой чинарой на задах ресторана, чтобы обжигаться чебуреками, только-только выхваченными из булькающего прогорклого масла. Всё как всегда – вторая порция, третья, потом шашлыки. Стол укрепляется предусмотрительно привезённой чачей, огонь заливается терпким Телиани, слегка подслащённым Киндзмараули, купленными за углом, в гастрономе, благо гастроном открыт до полуночи; звенят стаканы, щедрые жилистые куски шашлыка летят нагловатым псам, гоп-компания гуляет в полутёмной кулисе театра кукол, теней, силуэтов… Всё как всегда – трепыхаются подсвеченные фонариками пятнисто-изумрудные кружева, приторной вонью несёт из мусорных баков, тёмные личности, на минутку оставив кушанья с дамами, обговаривают гешефт за кустом азалии. Тут же, на гравии меж столами, разгораются кровавые стычки местных подростков, крики, свистки, топот убегающих, преследующих, которые врезаются в лениво кружащую, как по фойе, толпу. На железной площадке открытой лестницы с бесстыдством неореализма намыливает голову над тазом женщина в комбинации, под площадкой, у проёма раздачи чебуречной, судачат официантки, а только разбегаются с подносами, в продолговатый горизонтальный проём высовывается багрово-потная, в грязном колпаке, физиономия, и оживает клеёнчатый шедевр Пиросмани. В окошке, что горит в хаосе перил, лестничных маршей, ржавой жести, цинковых заплат и верёвок с распятым бельём, со вкусом возится парочка – взлетев над занавеской, четыре руки стягивают через голову юбку. Цветисто, переливчато попыхивают гирлянды лампочек над прилавком с ядовитыми сиропами, мороженым, всё гуще, гуще пропитывают воздух кофейные испарения. «Кофе, ещё кофе!» – орут из-за столов. Кофе перешибает прочие запахи, с ним соперничает лишь парикмахерская, единственное громоздкое кресло которой вынесено на свежий воздух. Очередная благодушная жертва, погрузившись в кресло, с готовностью отдаётся в волосатые лапищи только-только наточившего длинную бритву десятипудового усача-цирюльника, а пока приступает он к экзекуции, вокруг продолжают смешиваться, сгущаясь в возбуждающий гул, восклицания, повизгивания, шуточки, матерок, пьяные пререкания, вскрики, женский смех… И звенят стаканы, выдёргиваются из бутылок пробки, и сколько же прошло времени, – ещё один час? За ресторанным барьерчиком комкает, волнуясь, синенький скромный платочек задастая, затянутая в муар певица. И уже щекочет ноздри пахучее дуновение – клиента толстяка-парикмахера окутывает прохладное, пощипывающее облачко «Шипра», в обмахиваниях хлопает полотенце, словно парус фелюги. Голос, зычно возникающий из щелчков громкоговорителя, оглушительно, силясь оповестить Вселенную о соблазнительной плав-услуге, зазывает на ночную морскую прогулку с музыкальным сопровождением и буфетом, и белеет у причала, взлетая и падая, юркое судёнышко с полотняным оборчатым навесом над кормовыми скамьями, и матрос уже таскает разливное вино, пиво, и, несколько опережая отплытие, желая поспорить с ресторанным оркестром, после вальсовых сантиментов наяривающим – у лабухов второе или третье уже дыхание? – к припадочной радости вмиг помолодевших стиляг, финальные буги-вуги, пронзительно запускается в капитанской рубке пластинка Шульженко о голубке из Карибского края, или Ружены Сикоры про московские окна, или снятся Лидочке Клемент озёра Карелии. И сразу, спохватившись, о море в Гаграх и пальмах напоминает, пережимая акцент, абхазский артист вокала, а когда отчаливают, терзает душу проникновенностью «бесаме мучо» зарубежный шептун. И смотришь, смотришь на заключительные томления распадающейся на парочки нарядной толпы, а вдали, точно мираж, чудесно подгаданный расписанием крымско-кавказской экспрессной линии, обозначая затерявшуюся в черноте черту горизонта, к которой шумно устремляется катер с клюнувшей на музыкально-лирические посулы счастья хмельной ватагой, главной зрительной приманкой для осовелых романтиков ползёт в театрализованном зареве брильянтовая россыпь «Адмирала Нахимова», даже красные полосочки различимы на трубах многопалубного трофейного тихохода.
Снова и снова возникает перед глазами окаймляющий мыс широченный галечный пляж.
Зной.
Ленивые, чуть враскачку, движения рыжих животных.
Одинокий пьяный парус вдали, всплески волн, крики чаек.
И тишина.
Такая же, наверное, какая столетиями околдовывала этот плавно изогнутый берег до того дня, когда я его увидел впервые.
Но тогда меня звала Гагра.
Я спешил на субтропический фестиваль.
И что-то романтичное, тревожно-влекущее завязывалось на этой вульгарной, подсвеченной, как провинциальная сцена, курортной площади, в этом буйном парке у моря, что-то упоительное, непостижимое для разума, бередящее, пронзающее сердце уколами предвкушений, властно торопящее жить, брызжущее, яркое – то, что потом безжалостно тускнело с годами… Юность, юность! Мы, стареющие питомцы твоих бурь и надежд, смотрим на себя – тех, прежних, – прибившись к тихой пристани усталости и разочарований. С вкрадчивостью потаённого знания вели нас судьбы разными дорогами к последнему рубежу, и вот мы вместе опять, на повторенном на бис в памяти безалаберном представлении – смотрим, смотрим назад сквозь влажную пелену. А всё то, что сейчас и рядом, что называется настоящим, с боязливостью незрячего ощупывающим будущее, блекнет, зябнет, вязнет в сомнениях, сопутствующих остыванию крови. И пусть всё минуло, зачем горевать? Пусть только не трогает обесцвеченность умирания этот пошловато-пёстрый квант прошлого, что так живо набухает в глазах. Спасибо за каприз случая, за то, что выпало оглянуться на промельк дерзкого, ослепительного десятилетия: нам между двадцатью и тридцатью, всё предстоит ещё, горизонт громоздится неясными контурами вымечтанных свершений. Юность, молодость – вот она, истинная пора жизни – напористой, открытой, устремлённой вперёд с естественностью, с доверчивой слепотой животного. А потом, потом, когда начинаешь, вспоминая, оглядываться, оступаясь на каждом попятном шаге, всё меньше живёшь, всё больше переживаешь. Но что же завязывалось тогда? Да то, что наливаясь ожиданиями, вызревало позднее – разве мало? – годы, долгие годы. И беззвучный внутренний голос утешает: назло скучным фактам и вопреки сомнениям завязь не обманула, нет, нет, жизнь удалась, состоялась, и длится, длится ещё, если ты до сих пор видишь, слышишь, если кипят над головой могучие платаны, окатывает море солоновато-плотным свежим дыханием, смеются женщины, омоложённые гормонами памяти. Спасибо, случай, спасибо за возрождённый миг пряного великолепия, за юношескую жадность желаний, нежданно разбуженную постфактум иллюзорным блеском возвращённых богатств. Всё здесь опять смутно-многозначительно и прекрасно! И мы по-прежнему шумны, беззаботны, точь-в-точь подвыпившие именинники, встречающие дарителей. Мы забыли о близком прощании и вдохновенно разыгрываем зациклившийся на начале счастливый конец – всё сбылось, всё совпало, а ты так свыкся с ролью назадсмотрящего, так увлёкся собиранием давно облетевшей, разметённой ветрами лет праздничной мишуры, что ощущаешь вдруг, как повеяло робостью, интимностью, чистотой оттуда, издалека, из распалявшей инстинктивными надеждами круговерти. Почему же именно сюда ты ненадолго вернулся, пятясь по невидимым следам ушедшего времени, чтобы облегчить душу лирическим выхлопом? Что за откровение ищешь ты, внимая бормотанию крон и волн, на грубо декорированном пальмами злачном месте? Дивное побережье! Вечные язычники будут провожать здесь в море утомлённое солнце, хмелея на пиру угасания. Даже густая ночь будет ярка здесь, как магниевая вспышка, как эта стольких повидавшая площадь, которая и после тебя будет до беспредельности космоса разлетаться в витрине гастронома от полыханья заката.
Кто-то из древних – кажется, Платон – определял философию как упражнение в смерти. Упражнение интеллектуальное.
А не является ли ностальгия эмоциональным упражнением в этой отталкивающей неотвратимости?
Глотая сладостно слёзы, ретушируя воображением тускнеющие в памяти фото, не готовимся ли к великому и тайному, чего никто не минует?
Ностальгия тревожит не столько тоской по прошлому, сколько предчувствием последнего прощания.
По умственной видимости – она, ностальгия, есть сожалеющее сейчас, по сути – подстроенная интуицией встреча в настоящем с собственным взглядом, который унёсся в будущее и брошен оттуда назад, на всё то, что было, брошен как бы из последнего, завершающего и оформляющего мгновенья на жизнь, ещё длящуюся, но словно накрытую уже тенью.
Выпалил с пафосом прокурора: я обвиняю… Я обвиняю время?
И – прикусил язык, вопрос подставил.
Но не потому, что устыдился высокой ноты – ударило током: это же не отчуждённая абстракция, это и моё время; мне не переправить дату рождения, не откреститься от него, моего времени, не отмыться.
Есть банальности, которые не перестают удивлять.
В акте оплодотворения любой из многомиллионных сперматозоидов может слиться с материнским яйцом.
Каждое их потенциальное слияние – свой вариант индивида.
Стало быть, каждое задирающее нос Я – лишь смехотворно вероятный казус генной комбинаторики, исключительное выпадение в жизнь из тьмы потенциальных возможностей.
Кто, однако, избирательно открывает дверь в мир?
Божественный ли это, благодетельный промысел, и впору пасть на колени, целуя воображаемую руку Творца?
Или истина в разрушительной ухмылке безверия, и жизнь моя, всех – разных, счастливых и несчастных по-своему – анонимная злая шутка, глобальное надувательство, достойное коллективной, общечеловеческой, так сказать, пощёчины, которую хочется неизвестно кому отвесить?
Шутка или случайность?
Да ещё – заурядная?
И тут же ищу индивидуальную лазеечку в исключительность; однако почерк дрогнул, буковки заскакали…
Нет, всё проще, бесславней, всё – как выпадет, как стечётся.
И бесценные жизни с их педантично закодированными неповторимостями вовсе не соизмеряются заранее с высокой ли, низкой целью, а, допустим, какая-нибудь нераспознанная макропульсация Вселенной покачивает колыбель Случая, где бесчинствуют статистические закономерности.
Конечно, эта безликая подоплёка бьёт по самомнению человека, вскормленного из гуманистической соски; лучшим, постигающим тайны мироздания умам, которым органически чужд цинизм, даже при взгляде на сутолоку элементарных частиц материи, а не то что на суету существ высоких и гордых, особенно трудно поверить в то, что Бог, забавляясь, бросает кости.
Но если судьбу каждой ставки и решает случай, лишь условно наделяемый – опять лазейка? – высшим смыслом, глупо было бы бессильную обиду на спущенный с небес распорядок рождений и смертей переносить на слепого исполнителя – время.
Солнышко блеснуло, я размяк и уже готов благодарить время, которое дало мне всё, что я сумел взять у него; глупо, явно глупо корить время за бездушие, за тотальную немотивированную жестокость.
Не отвести глаз… Как живительно и плодотворно для его покоряющего обаяния не ведать сомнений, приковывающих к маниакально замкнутым кругам мысли, не реагировать на болезненные колебания коры, подкорки, толкающие к непредсказуемым словам и поступкам! Заслуженно занимая центр внимания, Виталий Валентинович Нешердяев выгодно выделяется из склоняемых и спрягаемых курортной молвой знаменитостей обезоруживающей положительностью. В спонтанных радостях беспечно-развлекательной отпускной стихии затруднительно узреть все грани незаурядной личности, но некоторые грани, сверкая и переливаясь в щедрых лучах, бросаются в глаза как раз в мизансценах отдыха – ну хотя бы поведенческая уравновешенность и открытость, доброжелательность, тактичность, сплавляемые Виталием Валентиновичем в непревзойдённо лёгкое искусство общения. Подумать только: выходец из довоенного поколения, человек другого уклада, опыта, а – катализатор молодёжных компаний, прирождённый олимпиец, а – всем доступен, всем рад, вот все и восхищаются им с редчайшим единодушием, дивясь участливости, учтивости, неиссякаемому, мило приправленному иронией оптимизму. Всё-всё всем импонирует в нём, не поскупилась судьба одарить достоинствами, по заслугам и отношение – ахают, охают, никак не привыкнут: такие годы, ломаный-переломанный на слаломных трассах, а ни хвори какой, ни эмоционального спада, прочней, чем у молодых, успех у женщин, мало общего, кстати, имеющий с показными успехами Ожохина, Красавчика, Яшунчика-адвоката и прочих корифеев торопливого сердцеедения. Вкупе с множеством приятных отличий от заурядных и даже незаурядных претендентов на ускоренный постельный успех лучшая человечья половина находит в Виталии Валентиновиче столь дефицитный ныне рыцарский идеал – кстати, кстати, за его аристократизм в английском духе языки без костей ему пожаловали герцогский титул и за глаза величали герцогом Нешем. А что? Звучит, как и выглядит. Не зря дамы – от юных до, если помягче сказать, опытных – без ума от него, кажется, что все по уши влюблены, он же платит поклонницам галантным вниманием, внушает каждой, что только к ней одной питает стойкую слабость, в общем, кумир, покоритель. К примеру, девушкам, почти девочкам, не то что в дочери – во внучки годящимся, сезон за сезоном кружит головки. Бедняжки льнут к нему – не оторвать, а за ним ни предосудительного поступка, ни обмолвки для сомнительного намёка. И потом не только обаяние и рыцарские стати, которые заставляют запрыгать мечтательные девичьи сердца, влекут к нему, но и увенчанный профессорским званием педагогический дар, дар наставника во всём, не только в своей науке: он и теннисные хитрости доходчиво растолкует, разложит все движения поэлементно и, вроде как играя в застывшие картины, зафиксирует каждый элемент пластичной позой, и на акварельную охоту в горы и ущелья за собой увлечёт; сумка с ракетками на плече, в руке этюдник, а там – пупырчатая бумага, склянка для воды, кисточки… Трудно им и дивной оснасткой его не залюбоваться…
О проекте
О подписке