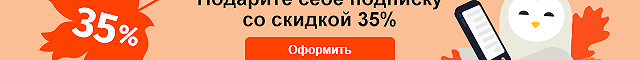
6
– Вдоль моря, в роще, тянулись могильники. Многие из них обнаружились при возведении корпусов, профсоюзный курорт построен на античных захоронениях. Групповые погребения – это продолговатые, с закруглёнными краями ямы, в которых покоятся в разных позах неодинаково ориентированные останки. В предхристианских захоронениях погребённые лежат, скорчившись, на боку. Можно предположить, что покойников опускали в яму в деревянных гробах. Однако к той эпохе относятся и захоронения покойников в амфорах – иногда в них хоронили тела, чаще – оставшийся после кремации пепел, обгоревшие кости. В двухметровой амфоре найден согбенный скелет и серьга из тонкой золотой проволоки…
Лёгок на помине! Виталий Валентинович Нешердяев, седовласый профессор-зодчий, изумительный педагог, знаток архитектурной классики и тонкий акварелист, со вкусом пьёт тархунный лимонад – сумка с ракетками прислонена к ножке белого креслица – под полосатым тиковым тентом, тет-а-тет с прехорошеньким свеже-румяным длинноволосым созданьицем, отмеченным также стройной шейкой и очаровательными ямочками на упругих смугло-румяных щёчках. Сибаритствуя в солнечной жёлто-зелёной пятнистости, достойной импрессионистской кисти, сидя бок о бок с тонизирующей цветущей юностью, Виталий Валентинович ничем решительно в импозантной своей осанке, никаким мимическим нюансом на лице строгой патрицианской лепки не выказывает эгоистического довольства, напротив, его притягательный облик победителя лет и баловня обстоятельств приглашает, не медля, шествовать за ним по пути блаженства. Неторопливыми выверенными жестами, улыбками он не только демонстрирует несказанно-приятную готовность потакать милым прихотям прелестнейшего ребёнка, доверчиво трущегося о его плечо тугой щёчкой, но и заражает случайных прохожих, желающих причаститься, реальной картинкой счастья, какое видится разве что в дерзкой грёзе. Виталий Валентинович зримо напоминает о радостях жизни, которые госпожа удача вручает тем, кто изъявляет порывистую охоту ими, радостями, с толком распорядиться. Однако же приглашает-заражает-напоминает он в высшей степени деликатно, без подстёгивающих, а то и отпугивающих назиданий, не выпячивая то, чем владеет. Ни на йоту нет в нём от примитивного сластолюбца, истекающего от одного взгляда на едва оформившуюся девчушку, от рисовки пижонов-бодряков в возрасте, напоказ, как ирокезы скальпы, выставляющих трофейные юбки, и ничуть не походит он на вызывающих усмешечки мотыльков-долгожителей, хоть и на грани инфаркта, но порхающих от увлечения к увлечению. В том-то и штука, что этот пожилой голубоглазый вдовец спортивно-мужественной и при том утончённой наружности, продолженной безукоризненными манерами, привлекает солидностью, естественностью поведения. Стоит задеть его краешком глаза, как даже в закоснелых натурах просыпается чувство подъёма, кровь ускоряется не обязательно возвышающей, но зато мощно стимулирующей завистью к столь впечатляющему союзу здорового духа с натренированным, сверхздоровым телом. Да-да, поражает духовность, светящаяся в его седом щегольстве, удивляет стать старца – гибкого, стройного кудесника горных лыж, тенниса. Шутка ли, семьдесят с хвостиком, а выбежит на корт – так изрядную фору молодым даст. И не тужится до седьмого пота – играет. Если финальный поединок между Владиком и Ожохиным, настоявшись на нездоровых инстинктах идеологической неприязни, попахивает грубой смертельной схваткой, то утешительный матч за третье место с участием Виталия Валентиновича выливается в чистой воды спектакль, а заодно – в урок сценического движения. До автоматизма усвоенные ещё в детстве теннисные приёмы-жесты не стесняют импровизационной свободы, плавно и отточенно-экономно переходят один в другой, сплетаясь в цельный, по-балетному пластичный узор. Выверенные взмахи-удары, мелькания, взблескивания на солнце тянущегося к мячу прозрачно-сетчатого овала, хищноватый очерк устремлённого профиля – чем не образ борзой в полёте? Его испытанным оружием была, есть и будет, наверное, красота! Щедро уступая победные очки молодым амбициям, он тонко переводит спортивный бой в его захватывающее пантомимическое изображение, не менее щедро дарит эстетическое наслаждение от гармоничного непревзойдённого стиля игры, чуждой как силовой устойчивости Ожохина, так и суетливо-избыточной мобильности Владика. В драматичнейших перипетиях представления, когда Цезария, кажется, вот-вот катарсис свалит с судейской, похожей на насест вышечки, неутомимая поджарость Виталия Валентиновича, не теряя темповой лёгкости, остаётся воплощением достоинства, подкупающей особенно в нашу стрессовую эру старомодной невозмутимости, лишь глаза горят синим вдохновением актёра, овладевшего вниманием партера. А после игры, после непременного поклона сопернику, затем – зрителям, так и подмывает обратиться к нему: милостивый государь, а то ещё лучше: сэр… Веет от него обольстительной сдержанностью, каким-то антиисторическим ветерком вечного аристократизма, чудится порой, что чары его переносят нас в старую добрую Англию. О, он не меняется, совсем не меняется, ведь и двадцать лет тому назад так же выглядел, улыбался, кланялся, так же играл, правда, тогда ещё, до сооружения на мысу курорта с отменно оснащённым спортивным сектором, блистал Виталий Валентинович на стареньких, видавших виды кортах в Гагринском парке.
Вот именно: неподъёмная книга, возвышающая долгое оттепельно-застойное время, – как квинтессенция мелкотемья.
Скромненький Брод на Гочуа, одомашненный клуб Лидзавского пляжа, покой, тишина и прочие прелести девственного древнего мыса ценились на фоне Старой Гагры – до дивного, разбитого принцем Ольденбургским дендропарка её, где по вечерам кипело веселье, было всего-то двадцать пять километров. Испытав вдруг острое желание встряхнуться, пошуршать, как говаривал Воля, на людях, где себя можно показать и на других посмотреть, отправлялись в возбуждающе-праздничную толчею Жоэкуарского пятачка, этой асфальтовой площади неправильной формы меж деревянным морским вокзальчиком и расположенным визави побеленным гастрономом, чья витрина, удваивая закат, заодно кружила головы внушительной пирамидой Кахетинских вин. Всё как всегда, начиная с пятидесятых-шестидесятых, словно время остановилось – на ярко подсвеченной веранде ресторана «Гагра», примыкающего к гастроному сбоку, кутят дельцы с аляповато разодетыми матронами в перстнях; прыщавые гастролёры-стиляги при коках, в тёмных пиджаках с осиными талиями, шёлковых галстуках с обезьянами, песочных ли, кремовых брючках-дудочках, пугают конвульсивными танцами, отдыхая на всю катушку от фельетонных преследований московской и ленинградской «Вечёрок», ополчившихся против плесени; и конечно, неотразимые, с ленивыми движениями горбоносо-усатые боги картинно пируют за столиками для дорогих гостей, вплотную придвинутыми к резному лазоревому барьерчику веранды, за которым…
Досужие философы охотно рассуждают о духовной трагедии, о том, сколь методично был бы изведён бесцельно-беспроблемным существованием людской род, если бы человек вдруг обрёл бессмертие.
Стращают: мол, человек бы неминуемо размяк без страха ухода и стимула созидания, погряз бы в нирване безделья и напрочь лишился бы обещанного праведным трудом шанса на счастье.
Если бы да кабы…
Искусственный ужас этих абстрактных угроз бессмертия вызывает улыбку – его не испытать, не вообразить.
Зато гроб высится неопровержимым аргументом на пьедестале вечных споров о смысле жизни.
Вчера в курзале.
Солидная, залитая мягким светом гостиная с ампиром красного дерева.
Дородный седовласый господин в кресле.
У фортепиано – белокружевная, в жемчугах, холёная дама с гладко зачёсанными блестящими волосами.
И тут, оплавляясь, скукожились стены, потолок, окно с гардиной.
Метнулось по гаснущему пространству лилово-угольное пятно с толстеющим огневым кантом, раскололось на острые куски ветвисто-зелёной, как молния, трещиной, которая, обратившись в горизонтальную полосу, сразу же взрезала сужающейся щёлкой в ничто глубины распадающегося кадра, и – тьма.
Пока склеивали плёнку, подумал, что на таком скоропалительном ребусе вполне может оборваться жизнь.
Навязчивые мысли-картины драпируют дни крепом.
Сознание примеряется к неминуемому исчезновению, возвращающему в бездну, из которой оно пришло, опробывает жуть забвения, свербящего расставания со всем, что было и есть.
Но страшней, противней самой смерти – похоронный обряд: сопяще-потное копание ямы, заколачивание, удары земляных комьев…
Или – после скорбно-елейных речей с Шопеном – пламя механической преисподней.
Вот бы раствориться, распавшись вмиг, вне тягостных химико-биологических возгонок, которыми верховодят бактерии или высокие температуры!
Разве могут утешить по сути атеистические молитвы за упокой ли, во здравие, превозносящие обращение того, что было человеком, в травинку, поглощение небесной синью облачка угарного газа, продрогшего, как мираж?
Насколько гуманнее обставлялся уход, когда встречал старый угрюмый перевозчик и вместе с всплесками вёсел замирали всплески памяти об уплывающих берегах.
Скользили тени, смеркалось.
Притихшие пассажиры лодки всматривались нетерпеливо: как там?
А сзади, за кормой, и где-то высоко-высоко над покинутою землёй мерцали отнятыми зарницами стычки бледного света с матовой тьмой.
Убогость фантазии!
Стикс, неотличимый от Сестры или Оредежи? Извивы берега, глинистые проплешины в ивняке…
Тонуло солнце, дотлевал закат, и с наступлением темноты – вязкой, жирной, как масляная краска для написания южной ночи, – асфальтовую опушку парка затапливает человеческая лава, алчущая наслаждений. Ленивая томность атмосферы, жадная распалённость тел. Да, вспыхивают фонари, и едва ль не всё тайное становится явным: округлые мраморные плечи, распущенные волосы, знойная полнота крашеных блондинок, делающихся лёгкой добычей литых брюнетов с остекленелой влагой во взоре, дерзкие дефиле на высоченных шпильках юных модниц со смелыми разрезами на юбках, показная независимость дамочек бальзаковских лет, тайно постреливающих глазками по мужским компаниям, напыженность мозгляков с прилипшими к черепам отчаянными зачёсами, удаль мичманов-сверхсрочников, метущих клёшами, – кого только не увидишь здесь! Весёлые завихрения вокруг остряков с золотыми коронками, самодовольная, выжидательно-притягательная медлительность любовников-рекордистов с культуристскими мышцами, гарантирующими стальные объятия… Бог мой, где все они теперь, незабвенные соискатели тех гагринских наслаждений, куда подевались? Лифчики сквозь капрон, соблазнительно расстёгнутые на волосатой груди рекордистов рубашки, болтающиеся амулеты из крабовых клешней, акульих зубов, пенящееся сусло желаний, вожделений, тщеславий, возбуждение пляжем, алкоголем, сексом, оранжерейная влажность воздуха, коктейль духов, пота, пряных цветов, пережаренного кофе, горелого мяса… Бело-ало-жёлтая спираль на клумбе, изумрудные всполохи листвы и – шарканье подошв, смех, хохот, приправляющие музыкальный салат, суверенные повадки завсегдатаев из двух столиц, которые хорошо знают, что обещают им ежевечерние гагринские представления. И робость провинциалов – заскочили в гастроном отовариться к жалкой домашней трапезе, а случай выталкивает на авансцену в клетчатом штапеле, китайских штанах, с кефиром в авоське. И расслабленность зевак, сосредоточенность выжидающих, кажущаяся беззаботность махнувших рукой на удачу в этой ночи: сидят себе спиной к чёрному, как нефть, морю на алебастровой балюстраде, о бетонное основание которой в музыкальных паузах бьются волны… Сидят, болтают ногами, глазеют на монотонное колыханье толпы, а пожилые хозяйки спальных мансард и пеналов-сарайчиков в байковых цветастых халатах и стоптанных войлочных туфлях застыли тряпичными изваяниями на прогнивших крыльцах ближайших халуп, выискивая любопытными глазками в толпе своих квартирантов. Бурлит подсвеченная электрическими огнями неряшливая порочная Пьяцца, а рядышком, за опутанной вьюнком полуразвалившейся стеной старинного форта затаённо дышит обходящаяся без электроподсветок Пьяццетта. Лишь угадываются во тьме изящные металлические воротца, да ступеньки почты, да задраенные на ночь киоски левой, завезённой из нелегальных сухумских артелей галантереи, и покоем замкнутого уюта веет от деревянных балкончиков, крутых черепичных скатов, обрамляющих выступами и нависаниями экзотический островок тишины с еле слышным лепетом волн, хрустом гравия на дорожке, приглушённой воркотнёй парочек и нашёптываниями ленивых пальмовых опахал, в комплекте с большущими звёздами и полумесяцем похищенных у какой-то мавританской идиллии.
И сколько же времени прошло – час, два? Трам-тарарам с ресторанной веранды зовёт обратно, на Пьяццу, на веранде уже подают горячее, норильчане-мурманчане с длинными северными рублями в карманах силятся перещеголять крезов-кавказцев крупностью купюр, которые бросают оркестру, и оркестр разогрелся, раздухарился, а денег вообще не считающие, шикарные, со смоляными шевелюрами, грузинские герои-любовники, эффектно обтянутые полосатым импортным трикотажем, и усом не ведут – что им до показного пижонства сорящих купюрами закомплексованных северян с обгорелыми, облезающими носами, когда они, подлинные хозяева праздника, покровительственно поаплодировав солистам-стилягам, исполнившим коронные буги-вуги, уже допаивают за столиками у привилегированного барьерчика шампанским и коньяком отловленных в Сочи мягкотелых шестимесячно завитых блондинок с выщипанными бровями, карминно-жирными ртами, трогательными мушками и прочими жгучими прелестями, запрятанными в пышные тафтовые складки до предъявления товара лицом, до ночных неистовств в гагрипшинских номерах, за свой неполный век столько стенаний краткого счастья выплеснувших в отворённые окна на металлический блеск магнолий…
О проекте
О подписке