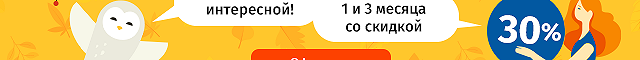
– Это макаронник, – сказал Шарло.
Заспанные голоса стали клясть самолет. Они привыкли к небрежному эскорту немецких самолетов, к циничной, безвредной, болтливой войне: это была их война. Итальянцы в эту игру не играли, они бросали бомбы.
– Макаронник? Так я и поверил! – возразил Люберон. – Ты что, не слышишь, как четко работает мотор? Это «мессершмитт», модель 37.
Под одеялами наступила разрядка; запрокинутые лица заулыбались немецкому самолету. Матье услышал несколько глухих взрывов, и в небе образовались четыре маленьких круглых облачка.
– Бляди! – выругался Шарло. – Теперь они стреляют в немцев.
– За это нас всех перебьют, – раздраженно сказал Лонжен.
А Шварц с презрением добавил:
– Эти придурки еще ничего не поняли.
Раздалось еще два взрыва, и над тополями появились два темных ватных облака.
– Бляди! – повторил Шарло. – Бляди!
Пинетт приподнялся на локте. Его красивое парижское личико было розовым и свежим. Он высокомерно посмотрел на своих товарищей.
– Они делают свое дело, – сухо сказал он.
Шварц пожал плечами:
– А зачем это сейчас?
Противовоздушная оборона умолкла; облака рассосались; слышно было только гордое и четкое пение.
– Я его больше не вижу, – сказал Ниппер.
– Нет, нет, он там, на конце моего пальца.
Белый овощ вышел из-под земли и указывал ввысь, на самолет: Шарло спал голым под одеялом.
– Лежи спокойно, – встревожился сержант Пьерне, – ты нас обнаружишь.
– Еще чего! В такой час он нас принимает за цветную капусту.
Он все-таки спрятал руку, когда самолет пролетал над его головой, мужчины, улыбаясь, следили глазами за этим сверкающим кусочком солнца: это было утреннее развлечение, первое событие дня.
– Он совершает маленькую прогулку, нагуливает аппетит, – сказал Люберон.
Их было восемь, проигравших войну, – пять секретарей, два наблюдателя и один метеоролог, они лежали бок о бок среди лука и морковки. Они профукали войну, как профукивают время: не замечая этого. Восемь: Шварц – слесарь, Ниппер – служащий банка, Лонжен – фининспектор, Люберон – коммивояжер, Шарло Вроцлав – зонтичных дел мастер, Пинетт – транспортный контролер и два преподавателя: Матье и Пьерне. Они скучали девять месяцев, то среди пихт, то в виноградниках; в один прекрасный день голос из Бордо объявил им об их поражении, и они поняли, что были не правы. Неуклюжая рука коснулась щеки Матье. Он повернулся к Шарло:
– Чего ты хочешь, дурачок?
Шарло лежал на боку, Матье видел его добрые красные щеки и широко растянутые губы.
– Я хотел бы знать, – тихим голосом сказал Шарло. – Мы сегодня отправимся?
На его улыбчивом лице беспрестанно мелькала смутная тревога.
– Сегодня? Не знаю.
Они покинули Морброн двенадцатого, все началось как беспорядочное бегство, а потом вдруг эта остановка.
– Что мы здесь делаем? Ты мне можешь сказать?
– Вроде бы ждем пехоту.
– Если пехотинцы не могут выбраться, то почему мы должны влипнуть на пару с ними?
Он скромно добавил:
– Понимаешь, я еврей. У меня польская фамилия.
– Знаю, – грустно ответил Матье.
– Замолчите, – одернул их Шварц. – Слушайте!
Послышался приглушенный продолжительный грохот. Вчера и позавчера он длился с утра до ночи. Никто не знал, кто стреляет и в кого.
– Сейчас должно быть около шести, – сказал Пинетт. – Вчера они начали в пять сорок пять.
Матье поднял запястье к глазам и повернул его, чтобы посмотреть на часы:
– Сейчас пять минут седьмого.
– Пять минут седьмого, – повторил Шварц. – Я удивлюсь, если мы уйдем сегодня. – Он зевнул. – Что ж! Еще один день в этой дыре.
Сержант Пьерне тоже зевнул.
– Ладно, – сказал он. – Нужно вставать.
– Да, – согласился Шварц. – Да, да. Нужно вставать.
Никто не пошевелился. Рядом с ними зигзагами промчалась кошка. Внезапно она притаилась, будто собираясь прыгнуть; затем, забыв о своем намерении, небрежно удалилась. Матье приподнялся на локте и проследил за ней взглядом. Вдруг он увидел пару кривых ног в обмотках цвета хаки и поднял голову: перед ними стоял лейтенант Юлльманн; скрестив руки и подняв брови, он смотрел на них. Матье отметил, что он небрит.
– Что вы здесь делаете? Ну что вы здесь делаете? Вы что, совсем рехнулись? Скажете вы мне, что вы здесь делаете?
Матье несколько мгновений подождал, и поскольку никто не отвечал, не вставая, ответил:
– Мы решили спать на свежем воздухе, господин лейтенант.
– Смотрите-ка! При вражеских-то облетах! Ваши капризы могут нам дорого обойтись: из-за вас могут разбомбить дивизию.
– Немцы хорошо знают, что мы здесь, потому что мы совершали все перемещения среди белого дня, – терпеливо возразил Матье.
Лейтенант, казалось, не слышал.
– Я вам это запретил, – сказал он. – Я вам запретил покидать крытую ригу. И что это за манера лежать в присутствии старшего по званию?
На уровне земли произошла вялая возня, и восемь человек сели на одеялах, моргая полусонными глазами. Голый Шарло прикрыл половой член носовым платком. Было прохладно. Матье вздрогнул и поискал вокруг себя куртку, чтобы набросить ее на плечи.
– И вы тоже здесь, Пьерне! Вам не стыдно, вы же сержант! Вы должны бы подавать пример.
Пьерне, не отвечая, поджал губы.
– Невероятно! – воскликнул лейтенант. – Вы наконец объясните мне, почему вы покинули ригу?
Он говорил без убеждения, голосом свирепым и усталым; под глазами у него были круги, и свежий цвет его лица поблек.
– Нам было слишком жарко, господин лейтенант. Мы не могли уснуть.
– Слишком жарко? А что вам нужно? Спальню с кондиционером? Сегодня ночью я пошлю вас спать в школу. С остальными. Вы что, забыли, что мы на войне?
Лонжен махнул рукой.
– Война закончилась, господин лейтенант, – сказал он, странно улыбаясь.
– Она не закончилась. Постыдились бы говорить, что она закончилась, когда в тридцати километрах отсюда парни гибнут, прикрывая нас.
– Бедняги, – не унимался Лонжен. – Их гонят на гибель, в то время как на носу перемирие.
Лейтенант сильно покраснел.
– Во всяком случае, вы пока еще солдаты. Пока вас не отошлют по домам, вы остаетесь солдатами и будете повиноваться своим командирам.
– Даже в лагерях для военнопленных? – спросил Шварц.
Лейтенант не ответил: он с презрительной робостью смотрел на солдат; люди отвечали на его взгляд без нетерпения и смущения: им нравилось новое удовольствие – вызывать робость. Помешкав, лейтенант пожал плечами и круто повернулся.
– Будьте любезны быстро встать, – сказал он через плечо.
Он удалился, очень прямой, танцующим шагом. «Его последний танец, – подумал Матье, – через несколько часов немецкие пастухи погонят нас всех на восток толпой без различия в чинах». Шварц зевнул и заплакал; Лонжен закурил сигарету; Шарло вырывал вокруг себя пучками траву: все они боялись встать.
– Видели? – спросил Люберон. – Он сказал: «Я вас отошлю спать в школу». Значит, мы не уходим.
– Он сказал просто так, – возразил Шарло. – Он знает не больше нашего.
Сержант Пьерне внезапно взорвался:
– Тогда кто знает?! Кто знает?!
Никто не ответил. Через какое-то время Пинетт вскочил на ноги.
– Ну что, умываться? – предложил он.
– Хорошо бы, – зевая, сказал Шарло.
Он встал. Матье и сержант Пьерне тоже встали.
– Ой, какой у нас младенец! – крикнул Лонжен.
Розовый, голый, без растительности, с розовыми щеками и маленьким толстеньким животиком, обласканный светлым утренним солнцем, Шарло был похож на самого красивого младенца Франции. Шварц, крадучись, подошел к нему сзади, как каждое утро.
– Ты дрожишь от страха, – приговаривал он, щекоча его. – Ты дрожишь от страха, младенец.
Шарло смеялся и, извиваясь, вскрикивал, но не так резво, как обычно. Пинетт обернулся к Лонжену, тот с упрямым видом курил.
– Ты не идешь?
– Куда?
– Умываться!
– К чертям! – сказал Лонжен. – Умываться! Для кого? Для фрицев? Они меня и таким возьмут.
– Никто тебя не возьмет.
– Да ладно уж! – прикрикнул Лонжен.
– Можно еще выкарабкаться, черт возьми! – сказал Пинетт.
– Ты что, веришь в сказки?
– Даже если тебя возьмут, это еще не значит, что надо оставаться грязным.
– Я не хочу умываться для них.
– Какую ерунду ты несешь! – возмутился Пинетт. – Глупее не бывает!
Лонжен, не отвечая, ухмыльнулся: он с видом превосходства лежал на одеяле. Люберон тоже не пошевелился: он притворился спящим. Матье взял свой рюкзак и подошел к желобу. Вода текла по двум чугунные трубам в каменное корыто; она была холодная и голая, как кожа; всю ночь Матье слышал ее полный надежды шепот, ее детский вопрос. Он погрузил голову в корыто, легкое пение стихии стало немой и свежей прохладой в его ушах, в его ноздрях, букетом влажных роз, цветами воды в его сердце: купание в Луаре, тростник, зеленый островок, детство. Когда он выпрямился, Пинетт яростно мылил шею. Матье ему улыбнулся: ему нравился Пинетт.
– Он осел, этот Лонжен. Если фрицы притащатся, нужно быть чистым.
Он засунул палец в ухо и яростно завращал им.
– Если уж ты такой чистюля, – со своего места крикнул ему Лонжен, – вымой заодно и ноги!
Пинетт бросил на него сострадательный взгляд.
– Их же не видно.
Матье начал бриться. Лезвие было старым и жгло кожу. «В плену отпущу бороду». Солнце вставало. Его длинные косые лучи скашивали траву; под деревьями трава была нежной и свежей, ложбина сна на боках утра. Земля и небо были полны знамений, знамений надежды. В тополиной листве, повинуясь невидимому сигналу, в полный голос защебетало множество птиц, это был маленький металлический шквал чрезвычайной силы, потом они все вместе таинственно замолчали. Тревога вращалась кругами посреди зелени и толстощеких овощей, как на лице Шарло; ей не удавалось нигде остановиться. Матье старательно вытер бритву и положил ее в рюкзак. Сердце его было в сговоре с зарей, росой, тенью; в глубине души он ждал праздника. Он рано встал и побрился, как для праздника. Праздник в саду, первое причастие или свадьба с крутящимися красивыми платьями в грабовой аллее, стол на лужайке, влажное жужжание ос, опьяненных сахаром. Люберон встал и пошел помочиться к изгороди; Лонжен вошел в ригу, держа одеяла под мышкой; затем он появился, апатично подошел к желобу и намочил в воде палец с насмешливым и праздным видом. Матье не было необходимости долго смотреть на это бледное лицо, чтобы почувствовать, что праздника больше не будет, ни сейчас, ни когда-либо после.
Старый фермер вышел из дома. Куря трубку, он смотрел на них.
– Привет, папаша! – сказал Шарло.
– Привет, – ответил фермер, качая головой. – Э! Да уж. Привет!
Он сделал несколько шагов и стал перед ними.
– Ну что? Вы не ушли?
– Как видите, – сухо сказал Пинетт.
Старик ухмыльнулся, вид у него был недобрый.
– Я же вам говорил. Вы не уйдете.
– Может, и так.
Он сплюнул под ноги и вытер усы.
– А боши? Они сегодня придут?
Все засмеялись.
– Может, да, а может, нет, – ответил Люберон. – Мы, как и вы, ждем их: приводим себя в порядок, чтобы встретить их достойно.
Старик со странным видом посмотрел на них.
– Вы другое дело, – сказал он. – Вы выживете.
Он затянулся и добавил:
– Я эльзасец.
– Знаем, папаша, – вмешался Шварц, – смените пластинку.
Старик покачал головой:
– Странная война. Теперь гибнут гражданские, а солдаты выкарабкиваются.
– Да ладно! Вы же знаете, никто вас не убьет.
– Я же тебе говорю, что я эльзасец.
– Я тоже эльзасец, – сказал Шварц.
– Может, и так, – ответил старик, – только когда я уезжал из Эльзаса, он принадлежал им.
– Они вам не причинят зла, – уговаривал его Шварц. – Они такие же люди, как и мы.
– Как и мы! – внезапно возмутился старик. – Сучий потрох! Ты тоже смог бы отрезать руки у ребенка?
Шварц разразился смехом.
– Он нам рассказывает сказки о прошлой войне, – подмигивая Матье, сказал он.
Шварц взял полотенце, вытер большие мускулистые руки и, повернувшись к старику, объяснил:
– Они же не психи. Они вам дадут сигареты, да! И шоколад, это называется пропагандой, а вам останется только принять их, это ни к чему не обязывает.
Потом, все еще смеясь, добавил:
– Я вам говорю, папаша, сегодня лучше быть уроженцем Страсбурга, чем Парижа.
– Я на старости лет не хочу становиться немцем, – сказал фермер. – Сучий потрох! Пусть лучше меня расстреляют.
Шварц хлопнул себя по ляжке.
– Вы слышите? Сучий потрох! – передразнил он старика. – Лично я предпочитаю быть живым немцем, а не мертвым французом.
Матье быстро поднял голову и посмотрел на него; Пинетт и Шарло тоже на него смотрели. Шварц перестал смеяться, покраснел и пожал плечами. Матье отвел глаза, он не имел склонности к судейству, к тому же он любил этого большого крепкого парня, спокойного и стойкого в трудностях; ему вовсе не хотелось увеличивать его неловкость. Никто не проронил ни слова; старик покачал головой и зло посмотрел на них.
– Эх, – сказал он, – не нужно было проигрывать эту войну. Не нужно было ее проигрывать.
Они молчали; Пинетт кашлянул, подошел к желобу и с идиотским видом начал щупать кран. Старик вытряхнул трубку на дорожку, потоптал каблуком землю, чтобы зарыть пепел, потом повернулся к ним спиной и медленно вернулся в дом. Наступило долгое молчание. Шварц держался очень напряженно, расставив руки. Через некоторое время он, казалось, очнулся и с усилием засмеялся:
– Я нарочно сказал, чтобы над ним подшутить.
Ответа не последовало: все смотрели на него. И потом внезапно, хотя по видимости ничего не изменилось, что-то дрогнуло, наступила разрядка, нечто вроде неподвижного рассеивания; маленькое разгневанное общество, которое образовалось вокруг него, разбрелось, Лонжен снова принялся ковырять в зубах ножом, Люберон прочистил горло, а Шарло с невинным взором начал напевать; им никогда не удавалось упорствовать в возмущении, если речь не шла об увольнительных или еде. Матье вдруг вдохнул робкий аромат полыни и мяты: после птиц пробуждались травы и цветы; они испускали запахи, как птицы до этого испускали крики. «Действительно, – подумал Матье, – есть еще и запахи». Запахи зеленые и веселые, и мелкие, и кислые: они будут все более и более сладкими, все более и более пышными и женственными по мере того, как заголубеет небо и приблизятся немецкие танкетки. Шварц шумно потянул носом и посмотрел на скамейку, которую они накануне подтащили к стене дома.
– Ладно, – сказал он, – ладно, ладно.
Он сел на скамейку, опустил руки между коленями и ссутулился, но голову держал высоко и сурово смотрел прямо перед собой. Матье поколебался, потом подошел к нему и сел рядом. Немного погодя Шарло отделился от группы и стал перед ними. Шварц поднял голову и серьезно посмотрел на Шарло.
– Мне нужно постирать белье, – сообщил он.
Наступило молчание. Шварц все еще смотрел на Шарло.
– Не я проиграл эту войну…
Шарло как будто смутился; он засмеялся. Но Шварц продолжал свою мысль:
– Если бы все поступили, как я, ее можно было и выиграть. Мне не в чем себя упрекнуть.
Он с удивленным видом почесал щеку.
– Это забавно! – сказал он.
Это забавно, подумал Матье. Да, это забавно. Он смотрит в пустоту, он думает: «Я француз» и впервые в жизни считает это забавным. Это забавно. Франция – мы ее никогда не видели, мы были внутри, это было давление воздуха, притяжение земли, пространство, видимость, спокойная уверенность, что мир создан для человека; так естественно было быть французом; это было самое простое, самое экономичное средство чувствовать себя всемирным. Ничего не нужно объяснять; это другим – немцам, англичанам, бельгийцам – нужно объяснять, из-за какой незадачи или ошибки они были не совсем людьми. Теперь Франция легла навзничь, и мы ее видим, мы видим большой поврежденный механизм и думаем: вот и случилось. Плохой участок почвы, плохой поворот истории. Мы пока еще французы, но это больше не естественно. Достаточно было плохого поворота, чтобы дать нам понять, что мы случайны. Шварц думает, что он случаен, он больше сам себя не понимает, он обременен самим собой; он думает: как можно быть французом? Он думает: «Если бы мне чуть-чуть повезло, я мог бы родиться немцем». Теперь он принимает суровый вид и напрягает слух, пытаясь услышать, как катится к нему его сменная родина; он ждет сверкающие армии, которые устроят ему праздник; он ждет того момента, когда сможет обменять наше поражение на их победу, когда ему покажется естественным быть победителем и немцем.
Шварц, зевая, встал.
– Что ж, – сказал он, – пойду стирать белье.
Шарло развернулся и присоединился к Лонжену, который разговаривал с Пинеттом. Матье остался один на скамейке.
В свою очередь, шумно зевнул Люберон.
– Как здесь осточертело! – в сердцах произнес он.
Шарло и Лонжен зевнули. Люберон посмотрел, как они зевают, и снова зевнул.
– Эх, хорошо бы, – сказал он, – сейчас потрахаться.
– Ты что, можешь трахаться в шесть часов утра? – возмущенно спросил Шарло.
– Я? В любое время.
– А я нет. У меня трахаться не больше желания, чем получать пинки в зад.
Люберон ухмыльнулся.
– Был бы ты женат, ты б научился делать это и без желания, дурак! Что хорошо в траханье, так это то, что по ходу ни о чем не думаешь.
Они замолчали. Тополя дрожали, вечное солнце дрожало среди листвы; издалека слышался добродушный грохот канонады, такой повседневный, такой успокаивающий, что его можно было принять за шум природы. Что-то оборвалось в воздухе, и оса совершила среди них долгое изящное пике.
– Послушайте! – сказал Люберон.
– Что это?
Вокруг них было что-то вроде пустоты, странное спокойствие. Птицы пели, на заднем дворе кричал петух; вдалеке кто-то равномерно бил по куску железа; однако это была тишина: канонада прекратилась.
– Э! – удивленно протянул Шарло. – Э! Скажи-ка!
– Ага.
Они прислушались, не переставая смотреть друг на друга.
– Так все и начинается, – равнодушным тоном проговорил Пьерне. – В определенный момент по всему фронту наступает тишина.
– По какому фронту? Фронта нет.
– Ну, повсюду.
Шварц робко шагнул к ним.
– Знаете, – сказал он, – я думаю, сначала должен быть сигнал горна.
– Придумал! – возразил Ниппер. – Связи больше нет; даже если бы они заключили мир сутки тому назад, мы бы его все еще ждали.
– Может быть, война кончилась уже с полуночи, – сказал Шарло, смеясь от надежды. – Прекращение огня всегда происходит в полночь.
– Или в полдень.
– Да нет же, глупый, в ноль часов, понимаешь?
– Да замолчите же! – прикрикнул Пьерне.
Они замолчали. Пьерне прислушивался с нервным тиком на лице; у Шарло был полуоткрыт рот; сквозь оглушающую тишину они вслушивались в Мир. Мир без славы и без колокольного звона, без барабанов и труб, Мир, похожий на смерть.
– Мать твою! – выругался Люберон.
Гул возобновился, он казался менее глухим, более близким и угрожающим. Лонжен скрестил длинные руки и хрустнул пальцами. Он с досадой сказал:
– Черт побери, чего они ждут? Они думают, что мы еще недостаточно разгромлены? Что мы потеряли недостаточно людей? Неужели нужно, чтобы Франция полностью пропала, а иначе они не остановят бойню?
Все были вялы, издерганы, уязвлены, с землистыми лицами людей, страдающих несварением. Достаточно было удара барабана на горизонте – и большая волна войны снова обрушилась на них. Пинетт резко повернулся к Лонжену. Его глаза смотрели остервенело, пальцы стиснули край желоба.
– Какая бойня? А? Какая бойня? Где они, убитые и раненые? Если ты их видел, значит, тебе повезло. Я же видел только трусов вроде тебя, которые бегали по дорогам с дрейфометром на шее.
– Что с тобой, дурачок? – с ядовитым участием спросил Лонжен. – Ты себя плохо чувствуешь?
Он бросил на остальных многозначительный взгляд:
– Он был хороший паренек, наш Пинетт, его очень любили, потому что он сачковал, как и мы, уж он не вышел бы вперед, если бы потребовался доброволец. Жалко, что он хочет повоевать теперь, когда война уже закончена.
Глаза Пинетта сверкнули:
– Ничего я не хочу, мудило!
– Хочешь! Ты хочешь в солдатики поиграть.
– И то лучше, чем обделываться, как ты.
О проекте
О подписке
