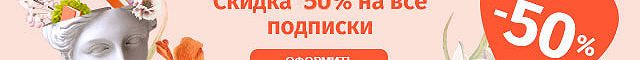Казаков – это, мне кажется, такие рассказы, которые надо читать, когда хочется почувствовать тихую грусть и светлую печаль.
Это не Чехов и не Бунин, это автор другого времени, и герои его другого времени: ближе к нам, может быть, ближе нам в чём-то. Они живут за границей больших городов, они там, в деревнях и селах, они идут куда-то, плывут, едут, едут, едут – за новой жизнью, за старой жизнью, за чем-то, чего сами понять и не могут (как Тедди, дрессированный медведь, о котором тоже есть рассказ – он сбежал от человека, но лучше ему будет в лесу? хуже? спокойнее? вольнее? больнее?).
Дело еще в том, что у Казакова в рассказах выразилось то время оттепели и ее настроение – ожидание больших перемен, новой, настоящей жизни. Это очень чувствуется, этим действительно для эпохи характерным ощущением всё здесь пропитано. Многие делают свой первый шаг на новом неведомом пути: кто-то надеется на лучшее (Илья Снегирев), кто-то уже чувствует будущее счастье (лирический герой «Осени в дубовых лесах»), кто-то не решится (Егор), кто-то маленький еще ждет, что мир сам откроет все свои тайны (Никишка), кто-то вдруг нашёл в себе нужное, главное (Соня). А некоторые попробовали уже эту новую, настоящую обещанную им оттепелью жизнь – и с чем остались, кем остались. И, в отличие от многих других авторов того времени, Казаков опрокидывает эту оттепельную человеческую радость: ничего не получается, ничего не получится; ничего на самом деле не изменилось и не изменится, – глупо ждать. (Но, когда прочитаешь все рассказы, почему-то не остается безысходности.)
***
Казаков много пишет о севере. О прекрасном, великолепном севере.
– Это тебе! – сказала она сзади.
Я обернулся и увидел на столе семгу – великолепную, тускло-серебряную, с широкой темной спиной, с загнутой кверху нижней челюстью. В доме запахло рыбой, и тоска по странствиям опять охватила меня.
Она была поморкой, она даже родилась в море на мотоботе летом в золотую ночь. Но к ночам она была равнодушна. Ведь только приезжий видит их и сходит с ума от тишины и одиночества. Только когда ты там гость, оторван от всех и как бы всеми забыт, только тогда ты не спишь ночью и все думаешь, думаешь и говоришь себе: "Ну-ну! Это ничего, это просто ночь, а ты здесь не навсегда, и что тебе до ночи, пусть солнце крадется краем моря. Спи, спи..."
А она? Она крепко спала ночами на тонях за ситцевой занавеской, потому что на рассвете ей надо было вставать и вместе с дюжими рыбаками грести, доставать из ловушек рыбу, а потом варить уху, мыть посуду... И это было всегда, каждое лето, пока не приехал я.
Я чувствую запах этой великолепной, блестящей семги, лежащей на столе в ворохе промасленной сырой черно-белой газеты, и как хочется, чтобы почувствовали вы, потянули носом, жмурясь от удовольствия. Я слышу эту тишину совершенно белой ночи, какая и не снилась петербуржцам. Повожу плечами от воспоминаний об утреннем влажном тумане сразу за порогом дома.
И много, много почувствует, читая Казакова, тот, кто сам хоть раз шёл ночью темным лесом. Кто видел хоть раз перед собой бесконечное море, кто слышал прилив. Кто с неуютным чувством вспоминал, как далеко сейчас люди, музыка, привычные громкие разговоры. Кто сладко радовался январскому ослепительному снегу где-нибудь загородом, кому снилась хоть раз в жизни первая любовь.
***
И счастливая, пропитанная далеким морем и близким домом «Осень в дубовых лесах». И совершенно сказочные «Никишкины тайны». И больной, страшный человеческой тоской рассказ «Трали-вали». И с чеховской, по-моему, ноткой рассказ «На острове». И зимние, хрусткие, по-человечески глупые и немые «Двое в декабре». И тяжелый «Запах хлеба». И «Голубое и зеленое» – рассказ о первой любви. И обидный, но внезапно жизнеутверждающий рассказ «Некрасивая».
И трогательный «Арктур – гончий пёс», над которым я всё-таки плакала.