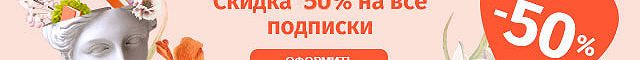
– Только твои похожи на яблоки, а мои на груши, – и она, быстро расстегнувшись, показала их Монике – продолговатые и твердые, как две золотистые дыни.
Лиза с нежной лаской коснулась атласной груди Моники, и от этого неожиданно приятного ощущения Моника беспричинно засмеялась.
Но вдруг пальцы Лизы конвульсивно сжались на ее теле.
– Оставь! Что с тобой? – воскликнула Моника.
– Я не знаю… это от грозы… – покраснев, пролепетала подруга.
В первый раз Моника испытала странное волнение и решительным движением застегнула платье.
Издали долетел звонкий голос тети Сильвестры:
– Моника! Лиза!
Лиза сконфуженно поправляла лиф. Моника закричала:
– О-о-о!
Далекое эхо повторило ее голос. Гроза прошла…
Монике семнадцать лет. Она считает: один, два, три года – это все длится война. Боже мой! Три длинных года, как Гиер превратился в госпиталь для выздоравливающих раненых.
Монику преследуют эти мрачные глаза, щурящиеся от солнца, глаза, отвыкшие от него за эту ужасную, вечную ночь. Она не может понять, как эти люди, обреченные проливать свою и чужую кровь, могли свыкнуться с такой жизнью, похожей на смерть; ее сознание не вмещает мысли: как те, что не принимают участия в войне или отдают ей так мало, приемлют как нечто должное страдание и бойню других.
Мысль, что одна часть человечества истекает кровью, а другая в это время обогащается и веселится, потрясала ее душу. Торжественные слова: «Закон», «Право», «Справедливость» – развевающиеся знамена над социальной ложью, укрепляли в сердце Моники буйный протест.
Она блистательно сдала выпускные экзамены, к которым готовилась среди постоянных экстатических порывов самопожертвования – не только для выздоравливающих в Гиере, но для темной, безвестной солдатской массы, страдающей в смрадных траншеях.
Теперь начиналась новая жизнь – Париж, лекции в Сорбонне: Моника вернулась в семью. Простилась с тетей Сильвестрой, пансионом, домом, садом – со всем тем, благодаря чему она сделалась красивой девушкой с чистым, бесстрашным взором. Прощай, незабвенное прошлое, закалившее ее душу!
Она с удовольствием вошла в родной дом на улице Генриха Мартина, в хорошенькую девичью комнату, с любовью приготовленную родителями, и ее растрогал их нежный прием.
Они смотрели на Монику другими глазами: теперь – она их гордость. Посев тети Сильвестры взошел и пышно расцвел – они его пожнут…
Упоенная собственной внутренней радостью, Моника больше не сердилась на них, не огорчалась ни их отчужденностью, ни эгоизмом и даже любила их – по традиции, по закону природы.
В первый раз после 1914 года они снова поехали на лето в Трувиль. Весь август Моника провела добровольной сестрой милосердия во вспомогательном госпитале № 37 и была так занята – днем больными, а вечером чтением, – что совершенно не интересовалась окружающим. Немножко огорчалась только – как в детстве – вечным отсутствием отца и рассеянным образом жизни матери.
Фабрика Лербье выделывает снаряды и загребает миллионы. И только подумать, что в такое-то время люди, уклонившиеся от военной службы – дезертиры и спокойные зрители всеобщей бойни, – неистово выплясывают танго и совокупляются! Пляшут и совокупляются!
Монике девятнадцать лет. Мировой кошмар рассеялся. В душе такой прилив, такой расцвет сил, что во время перемирия она почти забыла ужас войны и отдалась водовороту жизни. Более чем когда-либо внутренне сконцентрировавшись и более или менее слившись внешним существованием с родителями, она проходила курсы литературы и философии в Сорбонне, увлекалась теннисом и гольфом, веселилась, а в свободные часы делала искусственные цветы – это был ее собственный способ развлечения.
Светское общество, в котором неизбежно протекала жизнь, называло ее «оригинальной» и «позеркой» за то, что она не любила ни флирта, ни танцев.
Подруг всех Моника считала более или менее – по их легкомыслию – не ответственными за поступки, но глубоко развращенными в глубине.
Искать что-то в карманах панталон у мальчишек, как это делает Мишель Жакэ, или прятаться по углам со взрослыми подругами, как Жинетта Морен?.. Нет, покорно благодарю.
Если она полюбит, она отдаст всю себя одной великой любви. Но среди всех этих мужчин, о которых постоянно твердит мать, желая выдать ее замуж как можно скорее, только одно имя волнует ее немножко – Люсьен Виньерэ, коммерсант…
Она с удовольствием выделяла его среди других – и он тоже заметил ее.
Вытянувшись на диване, Моника мечтает. Бессменной цепью видений, как на таинственном экране, проходит прошлое. Из пропасти забвенья выплывают воспоминания – яркие до галлюцинаций. В полузабытьи она созерцает эти повторения себя самой.
Ей двадцать лет, и она любит… Любит и готовится выйти замуж. Через пятнадцать дней она уже будет мадам Виньерэ. Мечты сбылись. Моника улыбается с закрытыми глазами и взволнованно думает, что ни мэрия с ее официальной церемонией, ни шумный и скучный завтрак, где толпа людей будет поздравлять ее с затаенными фривольными мыслями, ничего не прибавят к ее счастью.
Она невинно отдалась два дня тому назад тому, кто для нее все. Отдала ему себя всю. Воспоминание об этом наполняет ее горделивой радостью. Ее Люсьен, ее вера, ее жизнь! Сейчас она его увидит на благотворительном базаре, и все ее существо стремится к нему, опережая сладкие мгновения. Она любила и поступила так, как хотел ее Люсьен, ее жизнь. Теперь она – «его жена» и счастлива, что смогла дать это высшее доказательство любви, этой высшей жертвой могла доказать ему Свое доверие. Ждать? Сопротивляться до того вечера, на который эта жертва уготована? Ради чего? Ведь свободный выбор, а не санкция закона освящает брак. Приличие? Не все ли равно – неделей позже, неделей раньше?
Приличие. Краснея от раздражения, она представляла себе, как звучит это пышное слово в устах ее матери.
О, если бы она знала!.. Моника вздрогнула: дверь отворилась, и мадам Лербье уже в шляпе появилась на пороге.
– Ты еще не готова? Это безумие. Автомобиль ждет. Разве ты забыла, что в половине третьего я должна завезти тебя в Министерство иностранных дел?
– Я готова, мама, только накину манто!
Мадам Лербье возвела взор к потолку и простонала:
– Я опоздаю на все мои рандеву.
– Жинетта, – позвала Моника.
– Что?
– Как твой флирт?
– Кто? Лео? Где он? В этой толпе никого не увидишь.
– У стола Елены Сюз. Выбирает сигару.
– Воображаю, какие гадости они говорят! Посмотри на их лица!
– И это тебя не волнует?
– Нисколько, наоборот, забавляет.
– Не понимаю…
Жинетта Морен фыркнула:
– Моника, ты очаровательна. Ты никогда ни в чем не разбираешься и ничего не понимаешь. Ты сущее дитя, несмотря на свой независимый вид.
Жинетта уже отвернулась от нее и, улыбаясь, раскладывала свой товар перед маленьким волосатым толстяком, Жаном Пломбино – «папским бароном» и королем спекулянтов.
– Галстук? О нет, не для того, чтобы на нем повеситься, нет – лишь в ожидании ордена Почетного Легиона на шею… Или эти прелестные платки? Не хотите? Тогда, может быть, коробку перчаток…
Под букетами зеркальных люстр, сверкающих сквозь стеклянную листву, в белой анфиладе салонов нарастал гул толпы. С гобеленов, со стен, обтянутых темно-красным штофом, мифологические персонажи удивленно рассматривали это сборище людей, переходивших от столика к столику и наполнявших шумом голосов огромную элегантную галерею нижнего этажа министерства, превращенную в этот день в зал благотворительного базара.
«Весь Париж» был сегодня здесь и гудел, как гигантский шмелиный рой. «Папский барон» Жан Пломбино рассеянно слушал болтовню мадемуазель Морен. Почувствовав на себе взгляд Моники, он склонил перед ней в почтительном поклоне свою безобразную голову в парике. Овдовев после брака с сицилианкой – торговкой апельсинами, он искал теперь для своей единственной дочери воспитательницу, достойную его новоприобретенного богатства.
Ядовитый гриб войны, но гриб еврейского корня и, значит, сильно привязанный к семейному очагу, «барон», преклоняясь перед золотым тельцом, все-таки выше ставил семейные добродетели. Под независимой внешностью Моники он угадал прямоту и честность – в его глазах качества тем более ценные, что в нем самом они отсутствовали и редко встречались в цветнике молодых девушек, со всех сторон навязываемых ему в жены и нетерпеливо ожидающих если не мужа, то любовника. Ярлычок с ценой наклеен – протягивай руку и бери. Единственное неудобство этой маленькой Лербье, белокурое сияние которой его очаровывало, – ее предстоящее замужество с Люсьеном Виньерэ, автомобильным фабрикантом. Правда, хорошая марка… Но куда торопиться! Как знать: может быть, разведутся еще… Если и не жена, то какая шикарная любовница…
По мнению самого Пломбино, этого носорога с липкой кожей, его уродство компенсировалось миллионами: человек с годовым доходом в миллион двести тысяч франков везде желанный гость.
Раздосадованный холодностью Моники, он удвоил свою любезность с Жинеттой Морен. Пикантная брюнетка…
Конечно, мимолетная забава. Но все же… Насколько Моника казалась ему достойной подругой жизни, настолько же Жинетта не внушала ему доверия. Для мимолетной связи – другое дело. При одной этой мысли его отвисшая губа увлажнялась слюной. Пломбино весело болтал со своим невероятным итальянским акцентом:
– Коробочку перчаток? Почему нет? Особенно, если вы сами их мне примерите…
– Шесть пар? Это немножко трудно.
– Не думаю, – захохотал он.
Жинетта удивленно посмотрела:
– Нет ничего смешного. Лайковые перчатки, размер семь с четвертью…
– Но это не мой размер.
– Оно и видно, – Жинетта дерзко расхохоталась, глядя на огромную лапу «барона».
Жан Пломбино был достаточно мужествен, чтобы не скрывать своего происхождения. В свое время он взвалил не один мешок на плечи, служа грузчиком в Генуэзском порту за три франка поденных.
При настоящем богатстве прежняя нищета стала для него предметом гордости.
– Не у всех на свете – пальчики феи, как у вас. Иногда и за деньги таких не найдешь! – ответил он смеясь.
Жинетта растерялась. На что он намекал? Почему он заговорил о деньгах? (Конечно, если у него приличное намерение… Баронесса Пломбино? Как ей ни было противно это животное, а все-таки тут стоило подумать…) Но барон все болтал:
– А, вот и Лео, законодатель моды! Здравствуйте, м-сье Леонид Меркер, мадемуазель Морен вас ждет.
– Виновата Елена Сюз, – сказал Лео, подмигивая ей с видом сообщника. – Я передал ей ваше поручение, мадемуазель.
– И что же?
– Все решено.
«Какой пройдоха», – подумала Жинетта.
В его непроницаемом взгляде Жинетта уловила намек на оргию вечером, у Аники Горбони, новой звезды полусвета. В ее испорченном воображении «четверти девы», жаждущей познания всех пороков, будущий вечер уже рисовался в туманных и заманчивых образах.
«Барон» понял, что он тут лишний.
– Вот это на ваши благотворительные дела, мадемуазель, и передайте мой почтительнейший поклон вашей матушке, – сказал он, вытаскивая из бумажника крупную синюю купюру.
– Так возьмите по крайней мере что-нибудь. Вот хотя бы это сашэ. Гвоздика… мой любимый запах.
– На память, благодарю вас. Что же касается перчаток… – Он указал на Меркера:
– Они достанутся ему. Ваш размер ему подойдет, я ручаюсь.
Расплываясь в улыбке и переваливаясь с ноги на ногу, он стал пробираться к соседнему столу, к мадам Бардино и Мишель Жакэ, зовущих его приветливыми жестами.
– Нет больше аристократии, – произнес с элегической грустью законодатель светских мнений. – Деньги сравняли всех. Наступило царство Хама…
Леонид Меркер, коротко Лео, как полагали в свете, стоял выше житейских мелочей. С юных лет он жил щедростью своих любовниц, потом прибыльные спекуляции по интендантству в 1915 году создали ему надежную защиту и от бедности, и от всяких опасностей на фронте. Провозглашенный светским хроникером, этот бывший парикмахерский подмастерье мог жить теперь на свои доходы – тридцать тысяч франков в купонах государственных займов. Его сбережения за годы войны… Познав всю сладость военной службы по «особым поручениям», он продолжал ее и теперь. Должность прихлебателя при мадам Бардино позволяла ему тратить на мелкие расходы (вдвое превышавшие его доходы) часть денег, которые та вытягивала от своего любовника банкира Рансома. Это, впрочем, не мешало прекрасному Лео – поверенному старух и наперснику молодых – удить рыбку в мутной воде при каждой новой встрече. Вновь подошедшие прервали их тет-а-тет. Жинетта, сверкая глазами, склонялась над своим столиком, гордясь, что вокруг нее толпится гораздо больше народу, чем около ее подруги, маленькой задорной Жакэ, профиль которой виднелся за соседним прилавком. Казалось, Жинетта голой шеей и четко выступающей под прозрачным крепом грудью с каждой проданной вещью отдает каждому из покупателей часть самой себя. К ее чувственному возбуждению примешивалось и удовлетворенное тщеславие: в этот вечер у нее будет самая большая выручка.
– Постойте, Лео! Вы мне еще ничего не сказали.
Заметив направляющихся к ним Сашу Волан и Макса де Лом, он тихо и быстро шепнул:
– Завтра в шесть часов у Аники. Ваши родители обедают в Елисейском дворце, и времени у нас довольно…
– А где мы встретимся?
– За чаем на Вандомской площади. Я буду с Еленой Сюз.
– Вы просто душка.
Он уже церемонно прощался, как вдруг волнение и усиливающийся гомон толпы заставили их взглянуть в другую сторону.
Публика теснилась, освобождая проход. Как большой корабль вплыл сухой, бритый человек – американский миллиардер Джон Уайт. Корабль сопровождала ныряющая в волнах шлюпка – генеральша Мерлэн собственной персоной, председательница общества помощи увечным воинам во Франции. Окруженная шумной толпой пожилых мужчин и изящных дам, она показывала товар знатному иностранцу.
– Вот это серьезные клиенты, – шутливо сказал Лео, – я исчезаю.
Стоя спиной к Жинетте, равнодушная к ее успехам, Моника с удивлением заметила, что волны этих официальных персонажей направляются в ее сторону. Кого они искали? Вероятно, заведующую столом мадам Гютье, вице-председательницу общества. Шествие остановилось перед ее выставкой искусственных цветов.
Жинетта побледнела от зависти. Жеманная мадам Гютье кинулась навстречу посетителям.
– Позвольте вам представить, – повернулась генеральша к Джону Уайту, – нашу милую председательницу, мадам Гютье, жену бывшего министра.
На угловатом лице миллиардера не отразилось ничего.
Лишь механический поклон и поворот головы в сторону этой неведомой дамы.
– Мадемуазель Морен, дочь известного скульптора.
Несмотря на почтительный реверанс Жинетты, ее имя вызвало лишь такой же равнодушный кивок.
– Мадемуазель Лербье!
Выражение интереса внезапно разгладило жесткие черты американца.
– А! Химические фабриканты? Знаю… А эти вещицы?
Его длинное туловище склонилось над прелестными нарциссами, розами, анемонами, похожими на цветник в кукольном садике.
– Мадемуазель Лербье сама их делает. И так художественно, у нее так много чисто парижского вкуса…
Видя, что автомат, которого она в течение двадцати минут водила по залам без иного результата, кроме кивка головы и неопределенного «а», проявил признаки жизни, генеральша воспользовалась этим неожиданным случаем и постаралась заинтересовать своего гостя целями их общества.
– Мадемуазель Лербье самая преданная наша сотрудница. Ее обожают солдаты.
«Вот те на. Хорошо сказано», подумала Моника, которая только раз была в большом госпитале в Буафлери и вернулась настолько потрясенная, что не нашла в себе мужества пойти еще раз.
Но генеральша взглядом полководца приглашала ее подчиниться лжи.
Джон Уайт посмотрел на Монику сочувственно. Он зажал в своей могучей лапе веточку боярышника и внимательно ее разглядывал.
– Какая прелесть эти белые лепестки, – рекламировала председательница общества, – и заметьте, какие нежные тона, не знаешь, слоновая ли это кость или пенка.
Моника пояснила:
– Это просто хлебный мякиш, высушенный и разрисованный.
– О! – произнес Джон Уайт, – в самом деле? Я его беру.
И, передав толстой мадам Мерлэн тонкую безделушку, он вытащил из внутреннего кармана пиджака книжку и перо. Подписав с невозмутимым видом два чека, протянул один в пять тысяч пораженной Монике «за боярышник», а другой – в десять – председательнице «на увечных». Круглое лицо ее засияло, как полная луна.
Затем, молча улыбнувшись Монике и послав общий кивок в сторону стола, он двинулся дальше, не выражая ни малейшего желания подойти к следующим киоскам, несмотря на почтительные приглашения мадам Бардино.
Но председательница чувствовала себя удовлетворенной и находила дальнейшие демонстрации излишними. Теперь следовало как можно скорее предложить благотворителю бокал шампанского.
Теснясь за американским кораблем и его шлюпкой, толпа волной отхлынула к буфету.
– Вы нам не говорили, милая, что у вас есть знакомство в Америке, – тоном упрека сказала Монике мадам Гютье.
– У меня? Я никогда не слыхала о Джоне Уайте.
– Это правда, – подтвердил кто-то.
Услышав знакомый голос, который внезапно перекрыл все пространство, Моника стремительно повернулась к пришедшему. А Люсьен Виньерэ докончил:
– Но зато Джон Уайт, вероятно, слышал об изобретении г-на Лербье.
Моника сразу оживилась. Румянец проступил на ее нежной белой коже. Она теребила чек.
– Как, вы уже знаете?
– Такое событие, еще бы! – улыбнулся Люсьен.
– Я до сих пор не могу прийти в себя…
«Как же, рассказывай, – подумала Жинетта и вернулась на свое место в уверенности, что вся сцена была заранее подготовлена.
Мадам Гютье, покровительствующая успеху в любви, поторопилась оставить влюбленных вдвоем… Какая прелестная парочка и как они подходят друг другу.
Чуть заметным движением губ Люсьен и Моника обменялись нежным поцелуем. Даже в самых его банальных словах теперь для нее звучала музыка счастья.
– Не ищите тут никакой загадки, – продолжал Виньерэ, – это все не ради одной вашей улыбки, хотя она стоит и дороже чека Джона Уайта. Его жест направлен в сторону вашего отца. Этот американский дядюшка, очевидно, соображает, что соединение азота с искусственным удобрением может быть выгодно применено на американской почве. А так как Джон Уайт франкофил, то и предпочитает начинать дело с Обервилье, а не с Людвигсгафеном. Теперь поняли?
– Что же… Доллары всегда желанные гости! – и с горечью, которая удивила Монику, Люсьен добавил:
– Конечно, золото всегда желанный гость. Особенно когда эти доллары приходят в виде луидоров.
– Наша промышленность возвращает нам пока только то, что мы затратили на вооружение. Но что поделаешь. Ведь не по вине Нью-Йорка Париж и Берлин воевали между собой, сказала Моника.
– Вы правы, Минерва, – согласился он.
Он шутя называл Монику «Минервой» за ту категорическую логику суждений, которой он побаивался и которую ценил не меньше, чем ее красоту. Она не выносила этого слова, угадывая за ним его насмешку, оно бросало единственную тень на их любовь… Люсьен улыбнулся.
– Нехорошо дразнить меня, – обиделась Моника. – И это постоянно, когда я с вами начинаю говорить серьезно! Ведь в сущности я же равнодушна ко всему, кроме нашей любви…
Он смотрел на нее польщенный, а Моника шептала:
– Вы мое настоящее, мое будущее, мое тело, моя душа… Какое счастье быть безгранично уверенными друг в друге. Ведь вы никогда не обманете меня, Люсьен? Нет, такие глаза не смогут, не сумеют солгать! Расскажите мне все ваши мысли, Люсьен… Люсьен. Где ты?
Он прильнул к ее пальцам и между долгими и медленными поцелуями прошептал:
– Настоящее… – чуть слышно прибавил: – я вас люблю… – Но в это время думал про себя: «Однако ее мания откровенности прямо-таки убийственна. В будущем это сулит массу удовольствий! Может быть, я сделал ошибку, не признавшись ей во всем, вплоть до истории с Клео? Надо было попросить ее отца рассказать ей об этом, хотя бы кое-что. Но теперь слишком поздно».
«Я вас люблю» – магические слова воскресили в памяти Моники незабвенные часы, когда они случайно остались вдвоем в их будущей квартире…
Бесплатно
Читать книгу: «Моника Лербье»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке