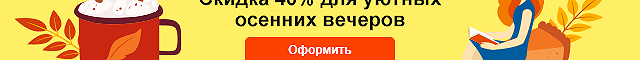
Когда вечером дед Адам принес этот тяжеленный серо-зеленый предмет, названный им самоваром, я с сомнением подумал, что из такого грязного пузана вряд ли можно пить чай. А проснувшись утром, не поверил своим глазам. На столе ослепительно сияло что-то невероятное! Я и не понял сразу, что это за штука такая и откуда она взялась? Обычно, проснувшись, я долго валялся в кровати и радовался ее необъятным просторам – тетя Нюся всегда вставала рано, и ее уже давно не было рядом со мной. Да, обычно я валялся в кровати, а тут вскочил и подбежал к столу. Я даже не понял сразу, что это такое.
– Нравится тебе наш самовар? – спросила меня вошедшая со двора тетя Нюся.
– Красивый, – чуть слышно проговорил я и тут же добавил более громким голосом: – Откуда у нас такой?
– Вчера Ада принес. Ты же видел и трогал его руками.
За глаза и в глаза все четыре бабушки и я звали деда Адама коротко – Ада.
– Вот этот?! – недоверчиво потрогал я пальцами стоящий на столе самовар. – Он золотой?!
– Медный. Просто я его хорошенько помыла и отчистила. Если тебя как следует помыть, ты тоже будешь у нас очень красивый мальчик.
– Не надо меня мыть, – буркнул я, отходя от стола, – а как в этом самоваре чай пьют?
– Ты умойся сначала, потом мы с тобой поставим самовар и будем учиться пить из него чай.
– Ладно, – охотно согласился я, решив, что ради такого случая можно и умыться, а не тянуть с этим делом как обычно.
На дворе было еще совсем не жарко. Довольно большое солнце стояло далеко за виноградниками, посылая на землю ровный и мягкий свет. Я знал, что, пока солнце большое, лучи его не такие жгучие, как тогда, когда оно становится белым, маленьким и замирает в зените. Со стороны гор дул теплый южный ветер Магомет, дул не сильно, а ласково. Выйдя за порог, я с наслаждением потянулся всем своим маленьким гибким телом. Летом умывальник стоял во дворе, вернее, висел на деревянном столбе, там же висело чистое полотенце и была приделана маленькая фанерная полка, где лежал маленький кусочек темного мыла, которым, кстати сказать, я старался не пользоваться.
– Шею мой, шею! – вынося из дома сияющий самовар красной меди, не забыла скомандовать мне тетя Нюся.
– Уже два раза мыл, – вяло огрызнулся я, но все-таки провел мокрыми ладошками по своей шее, от чего мне стало так щекотно, что я засмеялся. Быстро вытерся, повесил полотенце на гвоздь и побежал следом за тетей Нюсей к нашей летней кухне.
Мы долго думали, чем топить самовар, не кизяком же? Потом я вдруг выпалил:
– А виноградными палками?
– Какой молодец, умница! Конечно, виноградной лозой! Иди притащи, она за курятником сложена.
– Знаю, – весело откликнулся я и побежал к курятнику, невероятно гордый от того, что мое предложение принято.
Когда с охапкой лозы я вернулся к самовару, тетя Нюся успела налить в него родниковую воду. Родник был далеко от нас, в ауле под синей горой. Перед утренней дойкой коров в контору и нам привозил воду в своей белой цистерне счетовод Муслим на белой кобыле Сильве. Вода из родника была очень вкусная.
– А теперь давай-ка мы эту лозу расщепим на тонкие палочки. Я буду надрезать ее ножом, а ты разрывай руками дальше, до конца. Хватит силенок?
Дело для меня было новое, и на всякий случай я уклонился от ответа.
Тетя Нюся расщепила большим острым ножом много кусков лозы, а я потом разорвал их окончательно. Скоро у нас получилась порядочная куча самоварного топлива.
Расщепленная лоза пахла так вкусно, как будто она была не из дерева, а из самых первых, самых нежных, еще покрытых легчайшим пушком апрельских листочков винограда. Обычно они появлялись в конце апреля – в начале мая. Я любил растирать их в ладонях и нюхать.
И вот настал самый ответственный момент – мы начали разжигать самовар.
– Давай сначала я, а ты смотри и учись, – сказала тетя Нюся, – раз пять разожгу, а потом и ты попробуешь. Согласен?
Я утвердительно кивнул головой, хотя и подумал, что вряд ли тете Нюсе надо разжигать самовар пять раз, и трех бы вполне хватило. К тому времени я уже без запинки считал до ста, складывал, вычитал, перемножал и делил любые однозначные числа. Всему этому исподволь, совсем незаметно обучила меня тетя Нюся. Всему хорошему и важному она учила меня без нажима, как-то само собой, между прочим.
Первым делом тетя Нюся подожгла тонкую длинную полоску виноградной лозы и опустила ее во внутреннюю трубу самовара. Точно также подожгла и опустила в трубу вторую полоску, третью, пятую, десятую. Потом начала опускать полоски потолще и не поджигала их. Из трубы валил душистый белесый дым и реял в лучах солнечного света – это было очень красиво, а самовар тем временем разгорался все веселей. Скоро самовар зашумел, и тетя Нюся, положив еще чуть-чуть виноградных лозин, закрыла трубу конфоркой. Скоро мы услышали, как закипает в самоваре вода, а потом увидели, как бьет из маленькой дырочки в крышке тонкая струйка пара.
– Вот и готово! – радостно улыбнувшись мне, сказала тетя Нюся. – Иди скажи Бабук, что чай будем пить в доме, там пока попрохладнее. А тете Моте скажи, чтобы достала сахарин, она знает, где он лежит. И там, на печке, стоят накрытые тарелкой пышки, а сверху полотенце, чтоб не остыли.
Самовар был тяжелый сам по себе, да еще в нем ведро воды, но тетя Нюся внесла его в дом легко. Она была хрупкая, но очень сильная женщина.
Самовар водрузили посреди стола. Тетя Мотя заварила из него в маленьком чайничке мяту, душицу и мелису. Она всегда говорила, что заваривает, поэтому я и помню. Маленький чайничек был тоже медный. До фарфорового мы еще не дожили.
Первый чай из самовара мы сели пить вчетвером: Бабук, тетя Нюся, тетя Мотя и я. Дед Адам опять ушел в город «в одно место, к одному человеку», а тетя Клава торговала там же газировкой с сиропом.
Чай из самовара разливала по чашкам сама тетя Нюся, а тетя Мотя разливала заварку из маленького чайничка, тоже очищенного и сияющего рядом с пузатым самоваром, как его маленький младший брат.
Еще осенью дед Адам «достал» знаменитую канадскую муку, и пышки у нас на столе были очень белые, пухлые, хотя и не такие вкусные, как из нашей обычной русской муки. Но ничего русского мы давно не видели: мука была канадская, сахарин и маргарин американские. Как я сейчас знаю, все эти и многие другие продукты, механизмы вроде грузовиков студебекер и мотоциклов харлей, самолеты, танки, орудия, боеприпасы мы получали из Америки по так называемому ленд-лизу. А яснее, по договору о займе и аренде: lend – давать взаймы, leased – давать в аренду. Не хочу показаться неблагодарным, помощь во время Второй мировой войны оказывали нам США громадную, но все-таки, как ученый-зануда, не могу не заметить, что расплачивался СССР по этим долгам только рудами редких металлов, золотом, платиной, пушниной. Как я сейчас понимаю, управителям США всегда были по душе простые ценности.
Перед тем, как тетя Нюся унесла в дом самовар, проворная тетя Мотя успела выгнать из нашей большой комнаты мух и закрыть окна. Когда мы играли с тетей Мотей в догонялки, мне очень трудно было ее поймать. Вроде казалось – вот она, поймал, но тетя Мотя в последнюю долю секунды почти всегда успевала увернуться. Я не обижался и не злился за это, а наоборот, гордился тем, что она не поддается мне как маленькому, а играет честно, как с равным.
Бабук попросила налить ей только половину чашки, а всем остальным тетя Нюся налила по полной. Дело в том, что все мы пили и раньше чай из блюдец, а Бабук никогда его в блюдце не наливала. А в свою половину чашки дула, ждала, пока чуть остынет, и пила маленькими беззвучными глотками. Глядя на нее, и тетя Нюся, и тетя Клава тоже научились пить чай негромко, и теперь все трое дружно обучали этому умению меня, который все еще хлюпал нещадно.
– Ты что хлюпаешь? – спрашивала тетя Нюся.
– Горячий, – отвечал я.
– А у тебя ветер под носом для чего? – подключалась тетя Мотя. – Дуй как следует!
– И не тяни, – заканчивала цикл обучения Бабук, – не тяни в себя, а пей маленькими глотками.
Обычно Бабук говорила с сильным польским, или немецким, или литовским акцентом, а когда поучала меня, каждое слово звучало у нее на чистом русском языке. Наверное, тут автоматически срабатывала ее профессия гувернантки. До того, как выйти замуж за моего деда, она многие годы работала старшей гувернанткой в семье таганрогского миллионера – владельца многих ссыпок грека Сократа Демантиди и воспитала пятерых его детей. Она обучала их не только хорошим манерам, умению есть и пить, но и русскому, немецкому, французскому и греческому языкам. К сожалению, об этом я узнал только после смерти Бабук. На моей памяти она ни разу не обронила ни одного французского, ни одного немецкого, ни одного греческого слова, а говорила только по-русски с польскими вставками или чисто по-русски, когда речь шла о моем обучении хорошим манерам. Как я сейчас понимаю, в описываемые мной времена люди были настолько закрыты даже для ближних, что это трудно себе представить.
Разве за себя, любимую, боялась Бабук? Конечно, нет. У нее давно все отняли. Три старших сына умерли еще до революции 1917 года. Двух младших сыновей она шесть лет растила одна без мужа, да и когда он вдруг явился из бездны в 1923 году, то явился не один, а с молодой женой Анной, которая разделила с ним дни странствий фактически из одного мира в другой. Вырастила Бабук двух младших сыновей, претерпела и свыклась с тетей Нюсей, а тут обоих ее мальчиков угнали в неволю «без права переписки», молодых, красивых, умных, бесконечно родных ее деток – последнюю радость на этом свете. Слава богу, родился я, и Бабук как бы снова зацепилась за жизнь кончиками пальцев. Нет, не за себя, а за меня боялась Бабук – мало ли каким боком могло выйти нечаянно оброненное ею слово, а тем более знание многих слов на других языках.
В те времена никто из бывших кем-то в «старые времена» не козырял своими знаниями чего бы то ни было, а тем более иностранных языков. Эти знания были опасны для жизни в самом прямом физическом смысле понятия опасности. Люди жили каждый в своей скорлупе, прямо по поговорке: «береженого Бог бережет».
– Вкусный ты завариваешь чай, Мотя, – похвалила тетя Нюся, – у нас в станице мама похожий заваривала, только еще с листьями смородины.
– Смородины туточки нема, – улыбнулась молодая тетя Мотя, радуясь похвале уважаемой ею тети Нюси. Улыбнулась от души, но при этом ее светло-карие глаза так и остались печальными.
Солнце пока стояло на востоке, а окна нашей большой комнаты выходили на юг, так что, хотя и наступил июль, у нас еще было прохладно и хорошо с утра, а на день тетя Мотя или тетя Нюся занавешивали окна ватными одеялами, притом так плотно, чтобы ни один лучик солнца не проникал в комнаты. Мы все были южане и знали, как бороться с жарой, что ей противопоставить: прежде всего, чистоту и порядок. Стены и потолок внутри нашего дома тетя Нюся и тетя Мотя белили каждый месяц, а наш земляной пол подмазывали свежей глиной каждую неделю, а наш сколоченный из обрезных досок стол скоблили ножом и мыли до вкусного бела через день, а меня, бедного, заставляли мыть ноги каждый вечер, а утром еще и умываться с мылом.
Вкусный был чай из самовара, ничего не скажешь. А какие смешные лица отражались в зеркально сияющей меди его округлой поверхности! Глядя на эти вытянутые, кособокие лица, мы все смеялись с удовольствием, даже Бабук.
Первое чаепитие из нашего самовара удалось на славу.
VII
Много лет работая в археологических экспедициях и у нас в СССР, и в других странах мира, я невольно задумывался над тем, какую роль играли предметы домашнего обихода в жизни людей, и что это были за люди, и как они ладили между собой?
Откопав какой-нибудь бронзовый гребень со сломанным зубчиком, я живо воображал юную девушку с этим гребнем в руке и всю ее дальнейшую жизнь среди соплеменников. Моя профессия располагает к воображению и к пониманию сиюминутности бытия, когда каждый отдельный день может длиться мучительно долго, а вся жизнь пролетает в мгновение ока. Как говорила по этому поводу моя дорогая тетя Нюся: «Утром встаешь – понедельник, а спать ложишься – суббота». Или еще она говорила: «Заснула девочкой, проснулась бабушкой – и куда оно все утекает, в какие тартарары?!»
Говоря о предметах домашнего обихода: посуде, утвари, гребнях, безделушках и т. д., и т. п., я, конечно, держу в уме и наш славный самовар, его роль в жизни нашей семьи. Вкусный чай мы пили из него и летом, и осенью, а вот настоящей радостью он стал для нас зимою. Долгими зимними вечерами горячий чай на столе был для каждого из нас верным источником общего тепла и наслаждения. Да еще и веселья от того, как причудливо отражались наши лица в изогнутом медном зеркале самоварной глади.
Зимой самовар разжигала в коридорчике тетя Мотя. По ходу дела она надевала на него трубу коленом, в виде заглавной буквы «Г», и, занеся самовар из коридорчика в дом, засовывала верхнюю часть колена в дымоход нашей печки, которая топилась кизяком. Кизяк хоть и легкий и прогорает быстро, но зато горит очень хорошо, сильно, так, что зимой чугунная плита нашей печки была почти всегда малиновая и по ней бегали золотые мушки искорок. Как они ни старались, но пока тетя Мотя и тетя Нюся прилаживали самоварную трубу к дымоходу, в дом все-таки попадал дымок горящей виноградной лозы. Но этот дымок все находили очень вкусным, и никто не жаловался.
Зимой смеркалось очень рано, а часов в пять дня бывало уже темным-темно. Как правило, со стороны моря дул сильный пронизывающий до кости ветер – мокрый, тяжелый, очень противный. На ночь глядя у нас обычно не ужинали, а обходились чаем с сахарином, иногда с пышками, которые тетя Нюся пекла замечательно, а перед чаем ставила их на несколько минут в духовку, и в комнате воцарялся такой вкусный хлебный дух, что сразу все веселели и забывали свои личные тяготы во имя радости общего застолья.
По воскресеньям тетя Нюся делала бураки, как принято называть их у нас на Юге, или сахарную свеклу, как называют их в Центральной России. Сначала она бураки варила, потом освобождала от кожицы, потом резала соломкой, посыпала растертой в порошок мятой, а затем сушила в духовке, и получались такие хрустики, мятные конфеты. Мне они очень нравились. Обычно мы за вечерним чаем уплетали полную глубокую тарелку этих самодельных конфет.
Тетя Нюся, тетя Клава и тетя Мотя были между собой на «ты», а Бабук все они называли Мария Федоровна и на «Вы». Она тоже называла их по имени-отчеству и на «Вы». Таким образом, я узнал и запомнил, что тетя Нюся – Анна Михайловна, тетя Клава – Клавдия Ивановна, тетя Мотя – Матрена Максимовна. Деда Адама Бабук звала на польский манер Адась, а он ее на русский – Маня.
Время от времени тетя Мотя выходила в коридорчик и приносила заранее припасенный там кизяк. Я любил смотреть и в топку нашей печи, когда в нее подкладывали, и на раскаленную чугунную плиту. Хотя на столе у нас и горела пятилинейная керосиновая лампа, печка тоже давала не только тепло, но и свет. Между прочим, свет давал и наш начищенный пузатый самовар из красной меди. Наверное, тогда, глядя вечерами на самовар, я понял, что такое отраженный свет, и почувствовал, что он может быть даже красивее первоисточника – желтого света керосиновой лампы. Да, может быть богаче, ярче, красивее, но убери первоисточник, и отраженного света как не бывало. Что-то похожее на искусство и жизнь: убери жизнь, и нечего будет отражать, кроме пустоты.
После чая, который мы пили все вместе, наша компания распадалась на части. Бабушки оставались за столом играть в карты. Я разувался и залезал на кровать играть поверх одеяла в солдатиков, вырезанных из газеты. Дед Адам начинал ходить из угла в угол: туда-сюда, туда-сюда.
Бабушки играли в подкидного дурака. Не каждая за себя, а двое на двое: Бабук с Мотей, а Нюся с Клавой. Наверное, таким образом примерно уравновешивался общий возраст противоборствующих команд.
Мой дед Адам в молодости был профессиональным картежником, известным во всем Ростове, и никогда не садился с бабушками за карты, видимо, считал это ниже своего игроцкого достоинства.
Как я сейчас понимаю, мой дед Адам не был игроголиком – человеком, для которого игра – это все, можно сказать, вся вселенная во всех ее измерениях. Такие люди иногда играют очень хорошо, но так самозабвенно, что не способны противостоять матерым профессионалам, которые и в момент игры могут взглянуть и на нее, и на себя как бы со стороны, а значит, трезво оценить те или иные шансы, возможности.
Игра в карты требует не только ловкости ума и рук, но и недюженных актерских способностей, а главное, твердого характера, который позволяет принимать решения в долю секунды, не колеблясь, не дрогнув ни единым мускулом на лице.
Мой дед Адам прожил долгую жизнь, полную многих опасных приключений. Да, в молодости он играл в карты в богатых домах Ростова и был известен как «Белый Адась». Белый – потому, что никто и никогда не поймал его на мухлевке или, говоря литературным языком, на шулерстве. Наверное, кличка произошла от понятия «белые одежды», то есть человек в белом, чистый, незапятнанный неблаговидными поступками, во всяком случае, не ловленный. Белый Адась много выигрывал, немало проигрывал, всяко бывало. Почему-то еще в конце XIX века, на самой заре авиации и автомобилестроения, поляки пошли в эти новейшие отрасли. Примеров тому множество: от великого Сикорского до комедийного Козлевича. И мой дед Адам тоже был тут среди пионеров автомобилевождения. В двенадцать лет мать привезла его из Калиша в Ростов, а в двадцать он уже стал шофером, возил какого-то высокого царского сановника на Северном Кавказе и получал в месяц сто пятьдесят рублей золотом. В те времена не было собственно водителей, а были шоферы – автомеханики, то есть люди, разбиравшиеся в автомашинах досконально.
Но пока вернемся к картежным играм. Играл ли дед в старости? Наверное, играл. Во всяком случае, я помню, что у него бывали нераспечатанные колоды карт. Может быть, он играл с Францем? Не знаю. Что-то смутное мерещится в памяти по этому поводу, но утверждать не берусь.
Однажды, поздней весной, возвратившись утром из города в очень хорошем настроении, дед показал всем нам фокус, которого я больше никогда не видел. Он распечатал колоду карт и спросил:
– Сколько карт снять? Три, пять, десять, двадцать?
– Семь! – первым выкрикнул я.
Держа колоду в левой руке, дед снял несколько карт правой и протянул их мне:
– Считай.
– Семь, – сосчитал я.
– Кому еще снять? – спросил дед, беря у меня карты.
– Одиннадцать! – выкрикнула тетя Мотя.
Дед снял из колоды и протянул снятые карты тете Моте.
– Одиннадцать! – не веря своим глазам, пролепетала она.
Потом задавали свои числа тетя Нюся, тетя Клава.
И каждый раз дед одним движением руки снимал из полной колоды столько карт, сколько они заказывали.
Бабук ничего не стала заказывать, по ее глазам было понятно, что этот фокус она уже видела в исполнении своего Адася.
Сколько я ни просил, больше дед Адам никогда не показывал ни этот, ни какие-то другие карточные фокусы.
Как я сейчас понимаю, дело было вовсе не в фокусе, а в том, что пальцы рук моего деда Адама были настолько чувствительны, а опыт его работы с картами так велик, что он до доли миллиметра осязал, сколько карт берет. Наверное, так, другого объяснения я не нахожу. Тем более что сейчас и сам знаю: руки человеческие гораздо более точный инструмент, чем его глаза.
А долгими, зимними вечерами мой дед Адам стремительно шагал по комнате, бабушки играли в подкидного дурака. Их лица и пятилинейная керосиновая лампа, и малиновая плита нашей печки причудливо отражались в выпуклой зеркальной глади нашего медного самовара. Я не отражался – от кровати было слишком далеко до стола, а мой дед Адам, поравнявшись с самоваром, закрывал собой общую картину, но тут же опять открывал ее.
О проекте
О подписке
