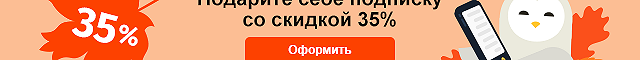
И не было конца и края этой обнаженке. Часами он пытался запечатлеть ее то сидя, то лежа, будил ее, когда она засыпала, и требовал замереть в какой-нибудь нелепой позе, но изображение сопротивлялось, и он взрывался: ожесточенно перечеркивал лист ватмана, рвал его на части и даже топтал, как ненавистного врага. Ольга порывалась обнять его, но он только злился, крутил ее, словно куклу, пересаживал и кричал:
– Не то! Не то! Не то!
Правда, случались дни, когда он отпускал ее со словами: «Что-то в этом есть, но… Ладно, иди спать» И Ольга мучилась сознанием собственного несовершенства. Ей все еще казалось, что он ошибается, приписывая ей какие-то необыкновенные свойства, что в ней нет и никогда не было того, что он ищет.
Он не учился и нигде не работал, хотя время от времени в доме появлялись деньги. Ольга робко спрашивала «Откуда?», но никогда не получала ответа.
А он снова мучил ее, ходил за ней как зверь по следу.
Когда его не было дома, она открывала его папку: многое ей нравилось, многое удивляло.
– Может, тебе стоит переключиться на что-то другое? – спрашивала она его. – У тебя так хорошо выходят лодки на Шкиперском протоке и кладбищенские кресты!
– Нет, я буду рисовать тебя. Хочешь знать, что я ищу в тебе? То ищу, что увидел там, в Крыму. Хочу запечатлеть что, собственно, есть человек.
– И что есть человек?
– Зверь, – ответил он и тут же прибавил: – Но ты не бойся: этот зверь с добрыми глазами.
– Пока ты ищешь этого зверя, ты перестаешь быть человеком, – вздохнула она и тут же испугалась: вдруг он больно схватил ее за кисти рук – правда, сразу же разжал их, словно обжегся. Когда она открыла глаза, он уже улыбался, немного беспомощно:
– Извини. Меня нельзя трогать.
Так он мучил ее всю осень и зиму, а весной все наконец прекратилось; теперь он стал запирался в ванной со своей папкой, так что она не знала, что и подумать.
И однажды он развернул перед ней кусок ватмана. Ошеломленная, Ольга долго смотрела на себя его глазами, а потом, испугавшись себя, сунула лист за спинку дивана. Но забыть увиденное не могла. На портрете была именно она, Ольга, а не какая-то похожая на нее женщина. Помимо всех подробностей тела, там было еще что-то, что принадлежало Ольге, но что невозможно было изобразить.
После появления на свет Катюши мужа Ольга почти не видела, оставшись один на один с младенцем, бутылочками и бессонными ночами. Крутилась как белка в колесе, а когда он вдруг появлялся дома, напрасно просила его хоть немного побыть с ребенком.
Теперь она едва ли не каждый день вынимала из-за спинки дивана тот портрет и разглядывала его, каждый раз открывая в нем, то есть в себе, что-то новое. Часто Ольга посреди дня ловила себя на том, что ждет той минуты, когда ей ничто не помешает извлечь портрет на свет. Но зачем? На это Ольга не смогла бы ответить. Знала одно: посмотрев на него, ей становилось проще и понятнее существовать дальше. И вот еще что: чем больше она вглядывалась в портрет, тем больше видела в нем его, мужа, а не себя. Да, несомненно, на том куске картона его было больше.
А потом портрет пропал. Она бросилась к мужу, но он сообщил дежурным голосом, что отнес его в приемную комиссию Репинского института… Как отнес? Зачем?!
– Как ты мог отдать им меня… такую?
– Только такую! – раздраженно оборвал он ее.
Примерно в то же время она ясно ощутила, что ее растущие усталость и непонимание, что от нее требуется, сродни физической боли. «Скоро тебе отдадут его?» – спрашивала Ольга мужа. «Кого – его?» – в очередной раз не понимал ее муж. «Тот мой портрет?» «Это мой портрет!»
В конце лета его приняли в Репинский институт, и он перестал бывать дома. Нет, конечно, периодически он появлялся, но не как муж, а скорее как солдат на побывку. Даже рождение Федьки почти ничего не изменило… В минуты их редкой близости Ольге казалось, что теперь она мужу не нужна. И еще Ольга ощущала – ее душа отторгает тело, которым безраздельно владел муж: наутро она частенько обнаруживала синяки на своих запястьях и предплечьях.
Начались реформы девяностых. Ольга сушила сухари, белые и черные, мариновала минтай «под курицу», высматривала на Сенной мягкий маргарин и порошковый творог. Иногда ее приглашали в гости, и ей приходилось брать с собой детей. Когда наступало время уходить, Катюша всегда начинала просить сладкое, и нередко им удавалось принести домой яблоко или мандарин.
А муж, забывая про молочную смесь, покупал акварель, пропадал до двух ночи, а потом вваливался веселый, и опять от него несло алкоголем и духами…
– Катюша, освободи телефон, надо вызвать неотложку.
– Еще пять минуточек!
Катюша болтала с подружками, валяясь на диване. Время от времени она задирала на спинку дивана то одну ногу в кроссовке, то другую и счастливо смеялась.
Врач, появившийся в квартире, когда уже давно стемнело, выписал лекарства, на которые у Ольги, конечно же, денег не было.
После того как Ольга обтерла сыну грудь и сгибы локтей уксусом, он наконец-то заснул. Жар понемногу начал спадать. А Ольга не могла больше оставаться в этой душной клетке. Не отдавая отчета куда, собственно, и зачем, она подошла к вешалке в прихожей.
– Ты куда? – вытаращилась на нее Катюша, выскочившая в коридор.
Ольга продолжала одеваться, пряча лицо, – боялась, что ее остановят. Катюша испуганно схватила ее за локоть и прижалась к ней, но тут же отпрянула:
– Мама, ты горячая!
– Я скоро, – тихо сказала Ольга и прикрыла за собой входную дверь.
Она шла прямо по лужам, подернутым льдом, и старалась ни о чем не думать, но одна мысль не давала ей покоя: все пошло не так после того портрета.
Она остановилась посреди какой-то улицы и вдруг подумала, что мансарда дома, которую она сейчас разглядывает, очень похожа на мастерскую мужа. В ярко освещенном окне последнего этажа маячила какая-то девица с сигаретой в пальцах, кажется, пьяная, смеялась и переговаривалась с кем-то, кто находился в глубине комнаты. Увидев Ольгу, на мгновение встретившись с ней глазами, девица, позвала кого-то, кто был там – и этот кто-то моментально убрал девицу и зашторил окно.
Ольга пошла прочь, повернула на набережную со сфинксами. Остановившись возле какого-то кафе, спустилась по ступенькам вниз. Выцветший зал со стертыми полами и пластиковыми столами пустовал. Хотя нет, в углу, за дальним столиком, сидел какой-то старик в потертом пиджаке. Вокруг шеи у него был обмотан широкий красный шарф. Старик воззрился на Ольгу:
– Наяда! – Он приподнялся со своего места и слегка поклонился. – А я ведь вас знаю! – И он сделал приглашающий жест рукой.
И Ольга послушалась. Подошла к столику, села напротив старика.
– Тут чай есть? – спросила она и не узнала своего голоса.
Старик подмигнул ей и достал из внутреннего кармана пальто бутылку.
– А разве можно? – спросила Ольга, равнодушно, словно со стороны наблюдая за происходящим – незнакомец, отвешивающий ей поклон, стакан мутного стекла, липкая бутылка в отечной руке.
– Нам – можно, – улыбнулся старик.
И Ольга придвинула к себе стакан с портвейном. Пригубила, и слезы выступили у нее на глазах; липкое тяжелое тепло разлилось внутри нее и сладко отдалось в мозгу, отодвинув на второй план действительность.
Старик оказался художником, когда-то даже преподававшим в Репинском институте рисунок.
– Хорошо, что вы существуете, – услышала она, а он, встретив ее непонимающий взгляд, продолжил: – Натурщицы так не глядят. Вы ведь жена одного из наших выпускников, верно? – И он долил Ольге в стакан вина.
– А он, пожалуй, гений. Гений, – тут старик усмехнулся, – у которого рука не дрогнет укокошить какого-нибудь простеца, когда он задумает «Снятие с Креста». Мы вот привыкли, что гений и злодейство вещи несовместные. Но не верьте тому, кто будет утверждать это, – он или плут, или дурак. Конечно же, гений злодей, и не дай Бог никому оказаться рядом с ним, потому что гений не будет гореть в одиночку… Но не беспокойтесь: когда схлынет эпоха, от художника не останется ничего, кроме его творений. А это значит, что вы останетесь. Навечно.
Потом он замолчал и долго рассматривал ее, подперев щеку ладонью.
– Никуда он от вас не уйдет… В вас есть то, что невозможно выразить, то, чем как раз и занимается искусство – и занималось во все века. Но это под силу разве что великим вроде Веласкеса, Рембрандта… Не знаю, как это вашему удалось.
Ольге вдруг все стало неинтересным и неважным.
– И не пытайтесь его переделывать, – крикнул он ей вслед, когда она уже была у выхода, – ведь только такой он и настоящий! Жаль, правда, быстро сгорит.
Она перешла проезжую часть и облокотилась о парапет набережной – ждала, когда пройдет дурнота. Мокрый снег летел в лицо, облепляя шарф, повязанный вокруг головы, тротуар уходил из-под ног, и Ольга опустилась на ступеньки возле сфинкса, прислонясь виском к граниту. Мимо плыл ноздреватый лед, хлопья снега быстро тонули в черной воде. Внезапно пахнуло морем – и она увидела то давнишнее, под голубым крымским небом… Но дальше заглянуть не удалось: снег залепил экран…
Завтра она купит Федьке батарейки и лекарства. Откуда возьмет деньги? Продаст свои волосы. Дорого. Дальше еще что-нибудь придумает. Катюша… С ней надо разговаривать каждый вечер, как и с Федькой, рассказывать про жемчужно-серое утро в горах, про лепестки роз в огромных пальцах…
Она не узнавала улиц, словно никогда не бывала здесь раньше. И ей вспомнился сон, который повторялся уже много лет: она летит в пропасть и все никак не может разбиться. Сейчас сон с явью неожиданно соединились: коридоры незнакомых улиц гнали ее вперед, и она почему-то уже знала, что остановки не будет – у этой пропасти нет дна. В отчаянной попытке вернуться она уцепилась за первую попавшуюся картинку в калейдоскопе, завертевшемся перед ней, – увидела их кухню в утреннем солнце, Федьку в стульчике для кормления, упирающегося перед тарелкой, и себя, изготовившуюся к изнурительной борьбе с ложкой в руке. Где-то тут ее муж: Ольга чувствует на себе его пристальный, прожигающий взгляд. И уже знает: стоит только ей обернуться – она увидит глаза зверя.
О проекте
О подписке
