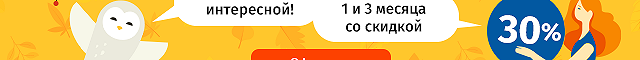
Глава третья
О мистере Тройлебене и других семейных историях (поэтому самая длинная)
– Дорогой мистер Тройлебен… нет-нет, «дорогой» нельзя… Уважаемый мистер Тройлебен! Я работаю редактором-корректором… но какая разница, кем я работаю…
«Уважаемый мистер Тройлебен!
К сожалению, мы не знакомы, но я смею предположить, что вы (или кто-либо из ваших родственников) были наставником и нянькой нашего деда, отца, а также и меня, пока мне не исполнилось семи лет, и мы не переехали из собственного дома в Рождественском переулке в квартиру на улице Гражданской.
Тройлебены сопровождали Полосухиных от начала их рода, каждый из них воспитывал по четыре-пять поколений нашей фамилии, ведь Тройлебены, как известно, потомственные долгожители и воспитатели, и род их гораздо древнее рода Полосухиных.
Я пишу к Вам, мистер Тройлебен, в надежде узнать о судьбе нашего воспитателя и учителя Карла Тройлебена, и если он жив, мы будем рады увидеть его и его преемника вновь в кругу нашей семьи.
С глубоким уважением, Лилия Полосухина».
Лили спросила, смогу ли я отправить это письмо мистеру Тройлебену, потому что сама она может в последний момент испугаться это сделать и совсем изведет себя сомнениями, так как все равно не успокоится, пока это письмо не будет отправлено адресату – а там уж пусть случай, судьба или почта решают его, а вместе с ним и нашу участь в любую сторону.
– Но по какому же адресу? – спрашиваю я.
– Я не знаю его адреса, но, наверное, можно найти адрес компании «Тройлебен и КО» и отправить туда, а там передадут? – неуверенно предположила Лили.
У меня тоже были сомнения, но, в конце концов, чем была бы наша жизнь без подобных писем? Адрес компании «Тройлебен и КО» был найден, и письмо отправлено…
Через неделю Лили, сидя за столом возле окна в образе прямо какой-то выпускницы бестужевских курсов, который теперь только в книгах, кажется, и остался запечатлен, воскликнула:
– Ты только посмотри! – на столе лежала полосная распечатка журнала, взятая домой для внесения последних правок: одна стопка слева, перевернутая лицом вниз, вторая – прямо перед Лили, которая ставила в ней правки острым карандашом. – Посмотри! Это он, господин Тройлебен!
На черно-белом отпечатке был портрет человека возрастом от 30 до 40 – сложно даже сказать, к какому краю ближе. Человек был взъерошенный и возбужденный – он, видно, что-то говорил и теперь застыл между слов с полуулыбкой счастья и довольной умиротворяющей и расслабляющей усталости.
– Что ж, он очень… я бы даже сказал, симпатичен! По крайней мере, на этой фотографии.
– Не в этом дело, он слишком молод!
– А может, это сын того Карла Тройлебена или даже его внук?
– Надеюсь, письмо еще у тебя? – спросила Лили.
Не знаю даже, что отвечать ей в таких ситуациях… Более того, на письме стоит адрес этого трухлявого пня на Рождественской… старого двухэтажного дома, в котором от четырех полноценных семей остались только я, соседка Валентина и бабушка, такая древняя, что никто не помнит, чья она. Бабушка обычно все дни проводит, подремывая на пенечке возле калитки со стороны улицы, и так как однажды Валентина, спеша на работу, чуть не убила ее калиткой, теперь, перед тем как выйти на улицу, мы стучимся в калитку с обратной стороны, а бабушка в ответ подает голос: «Входите, входите…» Валентина уже на пенсии, но продолжает работать в парке культуры и отдыха – заводит карусель. С тех пор, как умерла ее лучшая подруга – Алевтина, Валентина совсем одна, а теперь еще на зиму карусели закрыли, и ей совсем одиноко и без подруги, и без работы. Поэтому она все больше спит, а когда ей не спится, уходит в парк и ходит там, как шатун, до темна… Вот такие дела.
Не берусь сказать точно, был ли на самом деле тот господин Тройлебен, который сопровождал ранние детские годы Лили, или это плод ее фантазий, или долгий сон, рассыпанный на несколько ночей и плавно перетянутый в реальность. Говорят, что вполне возможно попросить что-то во сне, чтобы оно явилось тебе наяву, вот и Лили, может быть, встречала, и не раз, в сложных лабиринтах своих грез господина Тройлебена, а однажды взяла его за руку, да и привела в свою жизнь – и, более того, в таком случае ей удалось привести его и в нашу жизнь, в жизнь всей нашей семьи.
Из историй о наших предках по линии Полосухиных можно составить практическую энциклопедию неврозов. Сестра отца страдала ипохондрией, в особенности боялась за свое сердце, ей казалось, что ее сердце – это ребенок, которого она должна была родить, и вот теперь он временами обиженно бьется и сетует на то, что не может вырваться и уйти от нее. Иногда она раздумывала вслух о том, что если бы она вовремя родила его, то ему было бы уже лет двадцать, и он теперь учился бы, может быть, в институте на юриста… а может быть, уже женился бы… и так далее, и сердце своими толчками без конца напоминало ей об этом. Мужчины для нее были породой, никак не совместимой с женской, она не желала замуж, а только сетовала: «Когда же Господь научит женщин рожать без их участия?!», и верила, что когда-нибудь это будет возможно… но без медицинского вмешательства, а как-нибудь иначе…
Их младший брат, казалось, уже с детства был бродяжкой – ходил всегда чумазый, одежда на нем всегда была поношенная, с чужого плеча, обувь – с чужой ноги. Хорошие, купленные для него вещи он прятал в чулан, а если его заставляли надеть что-то новое или одевали силком, то за пару часов обновка становилась такой, будто она уже полгода провисела на огородном пугале. Он таскал со всех свалок поломанные игрушки и складывал в сарай. Его школьная сумка была полна огрызков карандашей, обломков линеек, кусочков ластиков, разных частей от авторучек, которые он постоянно перекручивал, заматывал кусками изоленты или склеивал остатками какого-то клея. Он без конца что-то находил – на дороге, на школьном дворе, на улице он постоянно нагибался, чтобы что-то подобрать – обломки, остатки, копейки. Его звали «санитар». Вместо ранца в школу он носил походную сумку с красным крестом, которую отдал ему один приезжий фельдшер – единственный подарок, который не был отправлен в чулан, наверное, потому что сумка была уже не новой, с добротной кожаной заплатой на дне. И если у кого-то что-то терялось, обращались к нему, и он находил. Еще его звали «миллионером». Возле большой свалки металла у него, говорят, была вкопана в землю вверх дном большая фляга из-под молока – так, что сразу и не найдешь, сверху в дне фляги пробита щель – в нее он кидал монеты, которые находил. Все смеялись, что миллион копеек у него там точно есть. Деньгами он не пользовался. Говорят, эта фляга и сейчас там зарыта.
Дед наш боялся дневного света. У него от солнца слепли глаза и краснела кожа. Он был снайпером на Великой Отечественной, и остался у него с той войны прибор ночного видения «Дудка» с двумя толстыми цилиндрами, торчащими ото лба в стороны, как муравьиные усы, и танкистский шлем. Он вырыл на огороде себе землянку и с весны до осени жил там, как крот, вылезая в сумерках: в гимнастерке, в широких штанах, заправленных снизу в носки, в шлеме танкиста и с прибором «Дудка» в пол-лица – так он собирал с картошки колорадского жука, полол грядки, ходил на рыбалку. Вообще, он был резчик по дереву. Ему заказывали карнизы под шторы, наличники на окна, а шкатулки и фигурки бабушка носила заведующему краеведческого музея, который, бывая в городе, сдавал их в магазин «Искусство».
Бабушка. В молодости она патологически боялась рожать. Когда время подходило к этому, она не выходила из дома и готовилась к смерти – собирала чистую одежду, в которой ее положат в гроб, перебирала по крохам свою жизнь и плакала… и никакие дела не могли вырвать ее из когтей парализующего страха, никакие уговоры, утешения, никакие радости жизни. После родов она будто впадала в кому – ни на что и ни на кого не реагировала, у нее не было сил даже самой есть и пить, она лежала неподвижно и думала, что уже мертвая, и ничего не хотела – ее практически вытаскивали с того света, не из болезни, а из того смертельного нервного перенапряжения, которое она пережила. Она родила троих, и каждый раз это происходило как впервые. Девочка родилась сама, в кровати, куда ее мать, почувствовав, что с ней происходит что-то не то, легла умирать. Их случайно нашла соседка, которая зашла попросить лопату, – девочка лежала молча, мать была без сознания. Акушер орал: «Таким, как ты, нельзя рожать детей!», священник кряхтел: «А кто ее спросит? Бог дает – куда деваться?..» Отлежав несколько недель, она как будто рождалась заново и совсем не воспринимала своего ребенка как собственного. Как если бы ей принесли нового барашка растить к остальным. Она даст ему, как положено, все, что надо, но то, что она носила его и рожала – она как будто этого не помнила напрочь. Или не хотела помнить. Чувства связи крови и плоти, отделившейся, оторвавшейся от твоей, она избегала, боялась, не хотела.
Отец наш, говорят, раньше был веселым, имел друзей, выпивал и гулял, поступал в институты и бросал их, любил столярничать, мог поставить печь или выложить погреб, и все думали, что он самый нормальный из всех Полосухиных. Но он изменился, не ясно точно, когда это произошло, но как будто чего-то испугался. Он изменял маме, которая тогда была его невестой, она уходила от него, уезжала, и тогда он все силы бросал на то, чтобы ее вернуть. Ему во что бы то ни стало вдруг понадобилось жениться именно на ней, он оторвался от друзей и компаний, стал нелюдимым, мрачным. Он усмирил себя. Он стал похожим на насекомое, которое само себя пригвоздило к стене, при этом самого себя убеждая, что именно так и необходимо жить. С рождением Лили он стал еще более невыносим. Его раздражало все, и чем дальше, тем больше. Мама, купая Лили, даже зажимала ей рот, если та начинала плакать – отцу нужна была тишина, он тогда всерьез занялся наукой, и ничто не должно было ему мешать. Может, поэтому Лили теперь так панически боится воды?
Голос у отца жесткий, резкий и низкий, и от его громкого рыка я действительно чувствовал, как мое сердце, казалось, по-настоящему отрывается и падает в пятки, и начинает колотиться там, как бешеный кролик, и колени действительно начинали дрожать. Такую же встряску испытывали и Лили, и мама, поэтому все всегда пытались, как могли, избежать этого. Но отец редко говорил спокойно – чаще приказывал. Со временем он этим тоном стал вести любой разговор. Все наши друзья и знакомые, случайно услышав этот его голос в соседней комнате или в трубке телефона, с испугом спрашивали: «Кто это был?», и потом, если обещали позвонить, просили: «Только ты сам подойди к телефону», а перед тем как зайти к нам – узнавали, дома ли отец, и предпочитали на всякий случай подождать на улице.
В его комнате всегда было холодно и неуютно, вечерами она была похожа на мрачный подвал, едва освещенный одной тусклой лампой; всю мебель он выкрасил в тяжелый коричневый цвет. Он не выносил шума, а тем более плача. Когда он слышал, что кто-то ревет, он начинал ругаться и пытался вызвать скорую, чтобы нас забрали в психушку. Поэтому Лили часто пряталась в темном чулане, где среди книг, плотно, до потолка, населяющих самодельные полки, можно было и тихонечко прореветься в подушку, а потом, взяв с полки книгу, удалиться в иную реальность, недосягаемую, как сон…
Может, поэтому Лили и ревёт, призывая в подмогу чуланную тьму хаоса, которая в детстве ее успокаивала. Со мной этот фокус не проходил – я в темноте начинал орать еще громче, и меня выносили на улицу. Поэтому я вырос очень закаленным и мог в мороз в одних трусах кататься по двору на велосипеде. И мне повезло больше – у меня уже была Лили, которая могла меня успокоить, пока мать успокаивала отца.
Возможно, тогда, из того чуланного хаоса, Лили и вытащила господина Тройлебена, который вселял в Полосухиных сказочную веру в собственные силы, воплотила того, кто вел каждого из нас по иному пути. Отец тогда сумел сдать все экзамены, чтобы, наконец, получить одно из высших образований, пройденных им в большей или меньшей степени. Стал научным сотрудником в научно-исследовательском институте, изобрел высокотехнологичный биопрепарат, который с минимальными затратами перерабатывает органические отходы в высококачественное биоорганическое удобрение, писал научные статьи…
Более того, похоже, именно тогда в нашей семье начали вспоминать историю о том, как Тройлебены пришли в жизнь Полосухиных и стали неотделимы от нее. Оказывается, только под добрым оком этих волшебных гувернеров и только благодаря их благотворному влиянию наша бабушка долгие годы преподавала в университете сопромат, а дед занимался проектированием секретных подводных лодок. И если бы рядом с ними не было Тройлебенов… эта тотальная неуверенность, скованность от чужого взгляда, страх оказаться на виду и неумение отражать прямые удары, это патологическое чувство незащищенности убили бы род на корню. А Тройлебены – это та сила, которая могла освободить или хотя бы притупить до возможной степени, или избавить в нужные моменты от этого тяжелейшего гнета.
Что именно заставило Тройлебенов покинуть Полосухиных, и когда, и куда они от нас ушли, никто толком ответить не мог. Как говорила бабушка, перемены веками происходят незаметно, а проявляются зачастую решительно и в одночасье. Наверное, так оно и вышло.
И как Лили на несколько лет удалось вернуть к нам Карла Тройлебена – тоже не ясно. Хотя я был тогда так мал, что не могу ничего вспомнить. Господин Тройлебен вновь сумел умиротворить всю нестройную нервную жизнь Полосухиных. А когда он ушел, все опять пошло кувырком. Убаюканные господином Тройлебеном неврозы отца снова вцепились в него со страшной силой. Он как будто вдруг испугался того, что он может. Все. Сам. И его тут же перекосило: он то не мог есть, то не мог спать, то его постоянно рвало на работе, так, что работу пришлось сменить. Он остался в институте, но стал столяром и садовником. Он бросил курить – потому что выкуренная сигарета сразу взвинчивала его до истерики, перестал выпивать даже по праздникам, потому что образовалась язва двенадцатиперстной кишки. По вечерам смотрел телевизор, уединяясь в своей комнате. Он требовал, чтобы еда была готова вовремя, и у мамы, помимо прочих забот, появился жесткий кухонный график, а у нас вместе с ним – диета без жирного, соленого, жареного и прочего. Все, что было нужно отцу, должно было исполняться сию минуту, иначе то, что пришло ему в голову, не даст ему покоя, он не сможет больше ни о чем думать, ничем заняться, пока это не будет исполнено, а значит, покоя в доме не будет никому.
С тех пор в доме поселился мрачный беспричинный страх. И он уверенно, мелкими щупальцами въедался в людей: в маму, в Лили, в меня. Мама буквально ходила на цыпочках – и днем и ночью она жила в напряженном ожидании очередного нервного взрыва и только и делала, что каждую минуту старалась эти истерики и крики предотвратить. Лили не раз по дороге из школы хотела уйти куда глаза глядят, но глаза видели вокруг лишь реальность, которая при внимательном рассмотрении вызывала страх, и хотели закрыться.
Чтобы каким-то образом уживаться с внешним миром и продолжать работать, отец сделал для себя очень четко расписанный график со всеми необходимыми церемониями, буквально до того, с какой тропинки и какой ногой входить в институтский двор, сколько сделать шагов по направлению к углу здания; какие-то углы он на несколько шагов проходил мимо, потом возвращался, останавливался, обязательно поднимал голову и смотрел на верхний край водостока, топтался на месте, а потом уже двигался дальше. Его передвижения по институтскому двору были похожи на ритуальный танец. Если по пути приходилось останавливаться с кем-то и разговаривать, то после разговора он шел в последнюю правильно пройденную точку и продолжал свой путь по нужной, ему одному известной схеме.
Он никогда не ходил в столовую, а брал обеды с собой; пути домой, из дома, в ближайшие магазины им тоже были закодированы, и тщетно кто-нибудь желал составить ему компанию – он или отказывался идти, или говорил: «Ну, пойдем, немного прогуляюсь…» Провожал до ближайшего угла и возвращался в исходную точку, из которой мог продолжать свой единственно верный путь.
О проекте
О подписке