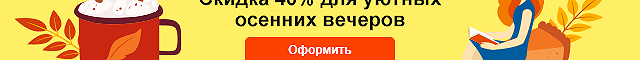
– Вот видите, – великодушно закончил иезуит, – и вы, и мы стоим на одном пути. В вас много доброго, но мы у цели, а вы не дошли до нее. И мы, и вы признаем согласно, что нужен внешний признак истины, иначе знамение церковности, но вы его ищете и не находите, а у нас он есть – папа: вот разница. Вы тоже в сущности паписты, только непоследовательные.
– Вон как! – возмутился Потемкин. – Что же ты молчишь, отец Богдан, как в рот воды набрал? Нас здесь уже в латинство перекрестили!..
– Так ведь сам видишь, князь Петр Иваныч: они своей еллинской диалектикой хоть из черта святого сделают… Что ж сказать? Умишком я слаб, не учен, но все же от Христа разум имею, и потому знаю, что русское православие – одно истинно. Была, конечно, и в нашей святой Церкви порча, но не от неправильности чинов, а единственно от нерадения. Знаю также, что наши отцы православной верою спаслись, и нам не только в их вере, но ни в малейшей частице канонов, ни у какого слова, ни у какой речи святых отцов ни убавить, ни прибавить ни единого слова не должно, ибо православным следует умирать за единую букву «аз». Вот это и скажи им, Курбатов.
X
Оставив Лойолу, посольство направилось к реке Би‑дассоа, отделявшей Испанию от Франции.
Над Пиренеями нависли плотные, серые облака. Временами накрапывал дождь, и тогда тропинка, петлявшая над бездной, делалась скользкой; приходилось спешиваться и вести лошадей и мулов под уздцы. На одном из перевалов поскользнувшийся мул от злобы едва не укусил Курбатова за ногу – он успел отскочить и при этом сам чуть было не сорвался вниз. Успокоив животное, Курбатов первым делом с облегчением ощупал сквозь привязанный к седлу мешок тетрадь и трубку: в этот миг он остро, как никогда, почувствовал, что это самые дорогие ему вещи.
На берегу Бидассоа возле Сен‑Жан‑де‑Люза французский таможенный чиновник придирчиво осмотрел их поклажу. Потом он долго что‑то прикидывал в уме и наконец потребовал тридцать луидоров за провоз дорогих окладов и прочей церковной утвари.
Потемкин возмутился, но спорить на этот раз не стал. Достав туго набитый золотом кошель (в нем было не меньше ста испанских дублонов), он с презрением бросил его под ноги чиновнику.
– Даю эти серебреники тебе, еретику, псу несытому, лающему на святые образа, ибо не познал ни Господа, ни Пречистую Матерь Его.
Тот, не слушая, кинулся подбирать рассыпавшиеся монеты.
За Пиренеями небо расчистилось, воздух потеплел. В конце октября добрались до Бордо и остановились в двух милях от города, отписав о своем прибытии гасконскому губернатору маркизу де Сен‑Люку. На другой день маркиз прислал послам семь карет, пять телег, десять верховых лошадей и письмо, в котором оповещал, что его христианнейшее величество король Людовик XIV принимает на королевский счет все расходы князя, как это делают и московские государи с французскими послами. Потемкин сел в карету с правой стороны, дьяк Семен Румянцев, не желавший в чем‑либо уступать, устроился слева. Курбатов и французский офицер сели напротив.
В Бордо городские старшины поднесли князю подарки – вина, фрукты, варенья, – потом говорили речи. Когда кто‑нибудь из них произносил «царь Московский», Потемкин сразу прерывал оратора, требуя сказать «царское величество», и Курбатов переводил по‑латыни: «Caesarea Majestas».
Сен‑Люк в ратушу не пришел, так как Потемкин ранее уже сказал его офицеру, от лица маркиза спросившему, отдаст ли князь ему визит, – что государеву послу неприлично видеться с кем‑нибудь из вельмож прежде короля. Чтобы смягчить ответ, Сен‑Люку были посланы меха, которые тот, однако, не принял.
Курбатов с любопытством приглядывался к французским порядкам. «Никто из вельмож ни малейшей причины, ни способа не имеет даже последнему в том королевстве учинить какого озлобления или нанести обиду. Король, хотя самодержавный государь, кроме общих податей никаких насилований делать не может, особливо ни с кого взять ничего, разве по самой вине, по истине, рассужденной от парламента17. Французы живут весело и ни в чем друг друга не зазирают, и ни от кого ни в чем никакого страха никто не имеет, всякий делает по своей воле кто что хочет, но живут во всяком покое, без обиды и без тягостных податей. Дети иx никакой косности, ни ожесточения от своих родителей, ни от учителей не имеют, но в прямой воле и смелости воспитываются и без всякой трудности обучаются наукам…»
Здесь, в Бордо, члены посольства последний раз ели вce вместе. Уже при следующей остановке дьяк и дворяне потребовали от французов накрывать для них отдельный стол, поскольку‑де они не ниже государева посла, так как тоже назначены его царским величеством.
Кормили послов хорошо. Потемкин был чрезвычайно разборчив в пище и просил в скоромные дни не подавать ему зайцев и кроликов, так как они слишком обыкновенны, а также голубей, которых православные нe едят; телят – можно, но лишь годовалых. Особенно любил молодых гусей, уток, поросят. Поили тоже на славу. «Вино хорошее: церковное свежее, белое французское, мальвазия, аликант, – записал Курбатов в тетрадь, но с грустью добавил: – Только водок нет никаких, одна яковитка: хуже тройного вина, да и пить дают всего шуруп или две стклянки…»
XI
В местечке Ла‑Рен под Парижем Потемкина ожидал маршал Бельфон, присланный королем. Для встречи московитского посольства было подготовлено восемь карет (две королевские, две самого маршала и четыре – взятые им у знакомых). Рота королевских мушкетеров составила почетный эскорт.
Курбатов разместился вместе с Потемкиным и Бель‑фоном на мягких, обитых штофом подушках одной из королевских карет. Как только закрыли дверцы, и карета тронулась, маршал достал из‑за широкого обшлага надушенный платок и поднес его к носу. Курбатов догадался, что причиной тому была любимая чесночно‑луковая подлива князя.
Дорогой Потемкин из окна кареты раздавал милостыню нищим, каждый раз приподымая свою медвежью шапку. Он был раздосадован, что не видно встречающей толпы, и жаловался на это маршалу. Курбатов перевел ответ Бельфона: в этом‑де никакой обиды и бесчестия послу великого государя нет, при въездах послов других государей то же бывает.
В Париже князю и его свите отвели дом чрезвычайных посланников. Маршал проводил Потемкина от кареты до порога и остановился, словно чего‑то ожидая. Князь уже поднимался по лестнице.
– Разве его светлость не проводит меня до кареты? – с удивлением осведомился Бельфон у Курбатова.
– Послу великого государя это невместно, – ответил Курбатов.
Маршал вспыхнул и в гневе уехал.
Вечером, однако, он вернулся, чтобы проводить Потемкина в Сен‑Жермен, где его ожидал король. Во дворец предполагалось идти пешком, но Потемкин счел это оскорбительным, и маршалу пришлось послать за двумя каретами.
У подъезда дворца послов встретили обер‑церемониймейстер и шестьсот гвардейцев. Еще сто швейцарцев выстроились шпалерами по ступенькам лестницы; с балкона звучали трубы и гремели литавры. Капитан гвардии проводил послов в королевский зал, где напротив дверей, в отдалении, был поставлен трон на четырех ступеньках. Когда ввели послов, Людовик XIV уже сидел на троне со шляпой на голове; справа от него стоял дофин, слева – брат короля, герцог Орлеанский, – оба с непокрытыми головами. Королева, присутствовавшая здесь же инкогнито, затерялась в толпе дам.
Лишь только Потемкин переступил порог зала, Людовик встал, снял шляпу, затем тотчас надел ее и сел. Потемкин вручил королю свои верительные грамоты, царские подарки и произнес речь, которую Курбатов после зачитал с листа по‑латыни. (Речи московских послов писались заранее в посольском приказе, прибавлять что‑либо от себя послам строжайше воспрещалось.) Людовик, слушая, снимал шляпу всякий раз, когда Курбатов произносил титул и имя царя.
По окончании аудиенции все перешли в другой зал, где в честь гостей были даны небольшой концерт и театральное представление.
Музыканты уже сидели на своих местах за нотами. Рядом с ними стоял певец, неприятно поражавший какой‑то рыхлой, изнеженной полнотой и набеленным мукой лицом, на котором выделялись только густые черные брови, по‑женски томные глаза и жирные, сочно‑алые губы. Курбатов решил про себя, что это, видимо, шут, который будет их развлекать. Он совсем утвердился в этом мнении, когда толстяк сделал напряженное лицо и заголосил совсем бабьим визгом, уморительно вытягивая губы и округляя глаза. Курбатов хотел засмеяться, но осекся, заметив, что французы, напротив, придали своим лицам благоговейное выражение. Курбатов недоуменно притих, вслушиваясь в чудной переливчатый визг, и вскоре почувствовал, как внутри у него что‑то раскрывается навстречу этим звукам, отвечает им… После концерта он спросил у сидевшего рядом вельможи, отчего толстяк поет таким тонким голосом, и, услышав насмешливый ответ, содрогнулся, в то же время почувствовав, что странное, непривычное удовольствие, испытанное им от пения, ничуть не уменьшилось от этого неприятного открытия.
Из последовавшего затем театрального действа Курбатов ничего не понял, но, возвратясь из дворца, добросовестно записал увиденное:
«Король приказал играть: объявились палаты, и те палаты то есть, то вниз уйдут, – и того шесть перемен. Да в тех же палатах объявилось море, колеблемое волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят; а в верху палаты небо, а на облаках сидят люди. И почали облака с людьми вниз опущаться и, подхватя с земли человека под руки, опять вверх же пошли. А те люди, что сидели на рыбах, туда же поднялись вверх, за теми на небо. Да спущался с неба же на облаке сел человек в карете, да против его в другой карете прекрасная девица, а аргамаки под каретами как бы живы, ногами подергивают. А король сказал, что одно солнце, а другое месяц.
А в иной перемене в палате, объявилось поле, полно костей человеческих, и враны прилетели и почали клевать кости; да море же объявилось в палате, а на море корабли небольшие и люди в них плавают.
А в иной перемене появилось человек с пятьдесят в латах, и почали саблями и шпагами рубиться, и из пищалей стрелять, и человека с три как будто и убили. И многие предивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте и танцуют, и многие диковинки делали…»
Вечер в Сен‑Жермене закончился роскошным пиршеством, данным маршалом Бельфоном от имени короля. Потемкин поминутно вставал, снимал шапку и пил здоровье его царского величества и французского короля. Маршал каждый раз был вынужден поднимать ответный тост за здоровье его христианнейшего величества и московского царя; под конец он так ослабел, что уже не мог уклоняться от медвежьих объятий и троекратных поцелуев князя, обдававшего его нестерпимой луковой вонью.
Простились они неразлучными друзьями, поддерживаемые под руки слугами. Бельфон напоследок поинтересовался, как понравились его светлости французские дамы. Курбатов, у которого также заплетался язык, все‑таки сумел перевести ответ Потемкина, что он женат и ему неприлично засматриваться на девиц столько, чтобы выражать о них мнение.
XII
А через несколько дней после вечера в Сен‑Жермене Курбатов сбежал.
Случилось это так.
Потемкин решил отправить грамоту царю с известием о результатах посольства и о том, что зазимует в Париже; Курбатову было поручено переписать бумагу.
Он засиделся за ней до вечера в своей комнате. Устав, подошел к окну, поднял раму и закурил трубку (покуривал он все чаще). С улицы пахнуло сыростью. Город тонул в темноте, сыпал затяжной осенний дождь. Курбатов несколько раз с наслаждением вдохнул холодный воздух, пыхнул трубкой, задумался…
Впоследствии он не раз сокрушался: как же мог он забыть запереть дверь! Потемкин налетел на него, как буря, лупил палкой, обещал в Москве самолично вырвать его копченые ноздри… Курбатов повалился ему в ноги, винился, умолял, плакал…
Князь постепенно отошел, но ничего не пообещал, только приказал тотчас закончить грамоту и принести ему. Курбатов долго ждал, пока перестанут трястись руки, потом снова сел за переписку, уже ничего не соображая…
Когда он принес бумагу князю, Потемкин, хмурясь, взял ее и принялся читать. Вдруг лицо его побагровело.
– Вор! Ты как титул великого государя пишешь?!
Курбатов похолодел: описка в титуле государя означала – батоги, кандалы, темница. В уме мелькнула впадина в Шильонском замке. Не помня себя, он кинулся к дверям, слетел по лестнице и побежал куда‑то в темноту…
Несколько дней он скрывался в предместьях. Его спасло то, что кошелек всегда был при нем, на поясе. Сменив платье и купив лошадь, Курбатов беспрепятственно выехал из Парижа, держа путь на север – к маленькому домику на узком канале.
В Амстердам он приехал вечером, недели через две после побега. Лил дождь, улицы и каналы холодно отливали светом фонарей. Эльза, вышедшая на стук в длинной белой ночной рубашке, узнала его в новом наряде не сразу; узнав, не удивилась, сказала только, что сейчас не одна. Курбатов, усмехнувшись, поднялся наверх, в ее спальню, где, при виде его, на кровати под одеялом испуганно сжался какой‑то крючконосый, плешивый старичок. Как оказалось, он ничего не имел против того, чтобы провести эту ночь у себя дома. Эльза, величественно стоя в дверях, спокойно ожидала смены кавалеров.
Так же спокойно выслушала она слова Курбатова о том, что теперь они будут жить вместе. Ночью, сквозь сон, он смутно слышал ее долгие счастливые вздохи.
XIII
Вскоре он устроился приказчиком в морскую компанию, торговавшую с Россией. Здесь он прослужил десять лет. Россия постепенно забывалась, теряла реальность, пряталась в снах, напоминая о себе одними бесконечными списками связок мехов, бочек икры, смолы, поташа, сала…
Скопив денег, он исполнил давнюю мечту Эльзы: купил гостиницу в Саардаме. К тому времени он обзавелся потомством – Эльза аккуратно каждые два года производила на свет крепкую малышку. Гостиница содержалась ею в образцовом порядке и приносила небольшой, но постоянный доход. Курбатов с удовлетворением чувствовал, как приближается спокойная, обеспеченная старость. Не переставал жалеть только об одном, – что пришлось оставить тогда, в Париже, заветную тетрадь…
Он сделался книгочеем. Вечерами, поручив Эльзе постояльцев, покидал шумную, окутанную табачным дымом гостиную, поднимался в свой кабинет, брал с полки увесистый том, с удовольствием устраивался у камина, тщательно набивал длинную трубку, раскуривал и привычным движением отстегивал застежку с переплета… Мирно, незаметно текли часы; потом появлялась Эльза, поила его липовым отваром и вела в теплую, нагретую грелкой постель…
Как‑то раз сосед кузнец Кист (недавно вернувшийся из Москвы, где он работал у молодого государя Петра Алексеевича), желая сделать приятное Курбатову, подарил ему на Рождество книгу.
– Пусть она напоминает тебе о покинутой родине, – сказал он, вручая ее. – Я знаю, что значит жить на чужбине.
Книга оказалась романом Энрико Суареса де Мендосы‑и‑Фигероа «Евсторий и Хлорилена, московитская история». Читая его, Курбатов чувствовал нараставшее в нем возмущение: да где же здесь Россия, так ли в Москве говорят, думают, любят?..
В этот вечер он решил написать о России сам.
С этого момента для него наступила пора ночных бдений, душевной смуты, полупризрачного существования здесь, в Саардаме, рядом с Эльзой и детьми, и настоящего там – среди грез и воспоминаний… Он писал так, словно старался извлечь Россию из небытия, спасти, сохранить ее для себя. Несмотря на это, книга получилась довольно жестокой.
Россия – бедная страна сравнительно с европейскими государствами, размышлял Курбатов, потому что несравненно менее их образованна. Здесь, в Европе, разумы у народов хитры, сметливы, много книг о земледелии и других промыслах, есть гавани, процветает морская торговля, земледелие, ремесла. Россия же заперта со всех сторон либо неудобным морем, пустынями, либо дикими народами; в ней мало торговых городов, не производится ценных и необходимых изделий. Ум у народа косен и туп, нет умения ни в торговле, ни в земледелии, ни в домашнем хозяйстве; люди сами ничего не выдумают, если им не покажут, ленивы, непромышленны, сами себе добра не хотят сделать, если их не приневолят к тому силой; книг нет никаких ни о земледелии, ни о других промыслах; купцы не учатся даже арифметике, и иноземцы во всякое время беспощадно их обманывают. В Боярской думе бояре, «брады свои уставя», на вопросы царя ничего не отвечают, ни в чем доброго совета дать не могут, «потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе, и многие из них грамоте не ученые и не студерованные». Подобно им и другие русские люди «породою своею спесивы и непривычны ко всякому делу, понеже в государстве своем научения никакого доброго дела не имеют и не приемлют, кроме спесивства и бесстыдства и ненависти и неправды; для науки и обхождения с людьми в иные государства детей своих не посылают, страшась, что, узнав тамошних государств веры и обычаи и вольность благую, начнут свою веру бросать и приставать к иным и о возвращении к домам своим и к сородичам никакого попечения не будут иметь и мыслить». Истории, старины мы не знаем и никаких политичных разговоров вести не можем, за что нас иноземцы презирают. Та же умственная лень сказывается и в некрасивом покрое платья, и в наружном виде, и во всем быту: нечесаные головы и бороды делают русских мерзкими, смешными, какими‑то лесовиками. Иноземцы осуждают нас за неопрятность: мы деньги прячем в рот, посуды не моем; мужик подает гостю полную братину и «оба‑два пальца в ней окунул». В иноземных газетах пишут: если русские купцы зайдут в лавку, после них целый час нельзя войти в нее от смрада. Жилища наши неудобные: окна низкие, в избах нет отдушин, люди слепнут от дыма. Всюду пьянство, взаимное «людодерство», отсутствие бодрости, благородной гордости, одушевления, чувства личного и народного достоинства. На войне турки и татары хоть и побегут, но не дадут себя даром убивать, обороняются до последнего издыхания, а наши «вояки» ежели побегут, так уж бегут без оглядки – бей их, как мертвых. Великое наше лихо – неумеренность во власти: не умеем мы ни в чем меры держать, средним путем ходить, а все норовим по окраинам да пропастям блуждать. Правление у нас в одной стороне вконец распущено, своевольно, безнарядно, а в другой чересчур твердо, строго и жестоко; во всем свете нет такого безнарядного и распущенного государства, как польское, и такого крутого правления, как в славном государстве русском. Даже у магометан русским есть чему поучиться: трезвости, справедливости, храбрости и стыдливости.
О проекте
О подписке