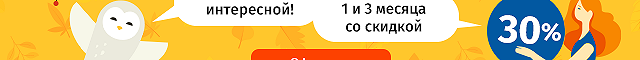
Высокие колокольца смолкли, но большой колокол, остановить который было не так просто, продолжал раскачиваться, отсчитывая медленно снижающие громкость и силу удары. С тринадцатым старик оказался рядом с ханом и остался стоять, опустив голову перед всадником. «Кто ты?» – спросил его Батый и собственный голос показался ему тихим и слабым в еще наполненном гудением пространстве. Старик не двигался, лишь длинные седые курчавые волосы шевелились под ветром. «Кто ты?» – повторил хан по-татарски, снова не получив никакого ответа. Наконец он вспомнил и затвердевшими, непослушными от холода губами в третий раз спросил по-урусутски: «Като ты?..» Старик поднял голову, и Батый увидел, что лицо дервиша, словно белая маска, было облеплено тонким узором снежинок, а глаза под густыми и лохматыми от снега бровями закрыты, как будто он крепко спал, – такие отрубленные головы врагов Батыю часто приносили в дар ордынские темники12 и джагуны13; на них не было ни страха, ни ненависти, ни какой-либо другой человеческой страсти, лишь спокойное умиротворение смерти. Но ведь старик-то был жив, – Батый даже видел легкий пар дыхания, выходивший из его ноздрей! «Надо открыть ему глаза, – подумал он, – поднять веки!»
Он спрыгнул с коня и тут же увяз в мягком снегу почти по край сапог. Аннычар, потеряв хозяина, снова отчаянно заржал и бросился вперед, неистово размахивая хвостом и выбивая из-под копыт струи снега, разлетавшиеся вокруг ног коня россыпью маленьких белых водоворотов. Батый беззвучно ахнул и хотел уже броситься вслед за жеребцом, но тут старик положил ему руку на плечо и медленно открыл глаза, запорошенные снегом. «Идем», – сказал он едва слышно, одними губами, и, взяв хана за запястье, повел его по нехоженному снегу к правому берегу реки. Они начали взбираться по крутому откосу, – Батый скользил, оступался и тыкался свободной левой рукой в сугробы, стараясь найти под ними хоть какую-то опору, но пальцы раз за разом сжимали лишь мягкие отрезы снега, за которые нельзя было удержаться. Старик же поднимался легко и спокойно, сильной уверенной рукой подтягивая за собой хана. «Пороки здесь не поднимешь, – успел подумать Батый, окончательно запыхавшись, чувствуя в висках удары все сильнее колотящегося сердца, – придется искать другой путь». Наконец неровный подъем кончился. Они стояли наверху, но почему-то не на правом, а на левом берегу, – монастырь опять находился прямо напротив, и между ними снова лежала Ока. «Как же так?» – изумленно спросил Батый дервиша. Ничего не отвечая, тот поднял голову и, прищурясь, стал смотреть наверх. Повторяя его движение, великий джихангир тоже вскинул глаза и увидел над собой ослепительно синее, бездонное летнее небо, на котором не было ни одного облачка, предвещавшее нежно-теплый день, который к полудню прогреется до легкой жары. Солнце находилось у него прямо за головой, на востоке, значит, они смотрели на запад. «Виждь, – сказал старик, легонько касаясь перстами его плеча. – Внемли. Сядут девы семо и овамо. Пойдут путы путать и полки пятить». Не понимая урусутской речи, Батый впился тревожным взглядом в гладкое, без единой морщинки и складки небесное полотно, расстилавшееся над ними… На этом моменте напряженного ожидания хан и проснулся.
«Надо позвать гадалку, – решил он. – А впрочем, вздор. Ничего дурного во сне не было, – никакого знака о поражении или смерти. А болезнь меня уже миновала. От болезней у меня теперь есть жена» – он скосил глаза и взглянул на Учайку, которая, спала глубоким сном, уткнув голову в его плечо, по-детски трогательно приоткрыв губы и чуть посапывая. Непривычное чувство мягкого умиления разлилось вдруг внутри груди Батыя сладкой тягучей волной. «Зря, конечно, я оставляю ее ночевать в своей юрте, – женщина должна жить отдельно. Надо отправить ее в обоз, к другим женам, – пусть учится носить нарядную одежду, говорить по-птичьи щебечущим голосом и ходить мелкими шажками, опустив очи ниц. Иначе по войску пойдут всякие глупые толки и ненужные пересуды. Да. Завтра же отошлю ее от себя». Приняв это решение, он тут же понял, что не выполнит его ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю, ни через месяц, ни до конца похода, сколько бы он ни продлился. Не отошлет, о чем бы ни сплетничали нукеры и усмехались джагуны. Во-первых, пока она рядом, его жизнь в безопасности, а во-вторых… во-вторых, ему… он… ее… она… Ну да, – пока она рядом, жизнь великого джихангира в безопасности. Орда не должна потерять своего предводителя. Умереть, не дожив до тридцати лет, было бы крайне обидно, – а именно так почти и произошло месяц назад. Кипчаки, как бы они ни притворялись, всегда на деле оказывались подлыми тварями, – ублюдочный народ, появившийся на свет от сношений свиньи с шакалом!.. Смелости в них никогда не было, – лишь желание поживиться, урвав кусок от туши оленя, загнанного стаей волков.
Три кипчакских хана – отец и двое сыновей – приехали в ставку великого джихангира около месяца назад, – слух о том, что поход идет успешно, затмил их разум жадностью и желанием даровых богатств. Песни они пели те же, что и всегда, дескать, татары и кипчаки – братья по крови, а кто же поддержит друг друга в трудную минуту, как не брат брата? Батый, однако, не собирался держать отряды кипчаков в Орде на особых условиях, увеличивая им долю добычи: ему совершенно не нужны были недовольства со стороны туркменов, тангутов, белуджей или аланов, которые, кстати, в бою сражались куда отважней. Кроме того, хан не сомневался, что при малейшей неудаче братья тут же побегут втихаря сговариваться с урусутами, если уже не заключили с ними очередной нерушимый договор. В силу этого он любезно, приветливо и непроницаемо-дружески выслушал цветистые речи об «одной крови одного рода», принял в дар двенадцать жирных черных курдючных баранов, двенадцать рыжих степных кобылиц и двенадцать кипчакских красавиц в остроконечных войлочных шапках: Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия… Гюльчатай. Батый равнодушно осмотрел красавиц, задержавшись взглядом лишь на личике последней, Гюльчатай, почти девочке лет тринадцати-четырнадцати, искоса бросавшей детские любопытные взгляды на грозного джихангира, и усмехнувшись, поблагодарил братьев за щедрые дары, обещая обдумать условия возможного союзничества. Их глупость его искренне позабавила: неужели они, подсовывая ему неопытное дитя, думали, что у него было мало наложниц, обученных высшим тонкостям в искусстве услаждения мужчин? А может, наоборот, решили, что он пресытился их опытностью и детская целомудренность его раззадорит? Да ничего они не думали, собрали в кучу этих усатых красавиц и пригнали к нему, как стадо ослиц. А девчонка, небось, уже спит и видит, как станет любимой женой джихангира. Тупые ишаки…
С удовольствием он выпил лишь кумыс, который набивавшиеся в братья ханы привезли в бурдюках из своих степей. А вот этого, как оказалось, делать совершенно не следовало, несмотря на то, что кумыс был свежий, прохладный и отменно вкусный, доставивший хану истинное наслаждение. Ночью он проснулся от резкой боли, скрутившей кишки. Лишь только Батый открыл рот, чтобы позвать Турукана, верного нукера14, ходившего за ним с самого детства, как из его рта стремительно потекла густая желтая рвота, залившая шею, грудь и шкуру барса, на которой он спал. Следом неудержимо полилось из нижнего отверстия, и юрта заполнилась густым смрадом, от которого хан опять начал блевать. Прибежавший на странные звуки нукер, обнаружил Ослепительного, корчившегося в луже собственной блевоты и испражнений. Перепуганный, он начал обтирать лицо Батыя голыми руками, так что через минуту они оба оказались выпачканными мерзостной вонючей массой, продолжавшей извергаться из нутра хана. Наконец Турукан сообразил кликнуть на помощь других нукеров и помчался за лекарями и шаманом. Когда они пришли, Батый лежал на середине юрты, дрожа всеми конечностями от нахлынувшего озноба. Целебный отвар не принес облегчения, – хана опять обильно вырвало. Шаман принялся окуривать больного дымом от веточки волшебного дерева тум-тум, приговаривая древние заклинания, изгоняющие злых мангусов, но мангусы сдаваться не желали, – через час Батый опять обпоносился, словно младенец, причем на этот раз в каловой жидкости были явственно заметны кровяные следы. Дознание, проведенное на следующий день, результатов не дало, – все три кипчака были совершенно здоровы и клялись геройской памятью общих предков, что их кумыс не мог принести Ослепительному никакого вреда. В отравлении их заподозрить было трудно, поскольку все пили напиток из одного кувшина, а от своей чашки Батый не отворачивался, так что времени подбросить отраву просто не было. Кроме того, выгоды от такого зла кипчаки вообще не имели. На всякий случай хан велел приставить к ним стражу и караулить до тех пор, пока ему не станет легче.
Но легче не становилось: рвота и понос продолжались, а жар то поднимался, то резко падал, совершенно обессиливая больного, организм которого через краткое время исторгал любые принятые им пищу и питье, а также разнообразные отвары, приготовленные дрожащим от страха лекарем. Шаман разводил руками и говорил, что Ослепительного, верно, сглазили, напустив на него тьму злобных мангусов, терзающих внутренности джиганхира.
Через неделю мучений, двадцативосьмилетний, полный сил молодой мужчина превратился в скелета, обтянутого серой пересохшей кожей, по которой обильно расползлись язвы, источавшие грязно-белый гной, засыхавший и превращавшийся в струпья. Любое движение приносило ему мучительные страдания, от которых он начинал кричать так, что сорвал голос. Войска, не знавшие о болезни джиганхира, топтались на месте, проводя время в джигитовке, костях и развлечениях с красотками из окрестных деревень. Начались стычки и потасовки из-за неподеленных женщин и выигрышей; произошло даже убийство. Убийце, разумеется, устроили показательную казнь, сломав ему спину, но пора было принимать какое-то решение, вот только никто не знал, какое. Джагуны не решались заводить разговор о судьбе похода, поскольку она была неразрывно связана с судьбой джихангира, а его судьба висела на волоске. Оставалось лишь ждать, уповая на милость высших сил.
На седьмой день, когда Батый, очищенный нукерами от утренних извержений, лежал навзничь, тупо и безмысленно глядя застывшим взглядом наверх, полог юрты откинулся, и Турукан подвел к постели хана незнакомого воина. Тот встал на колени и, непроизвольно скривившись, прижался лбом к запачканному полу.
– Ослепительный, – прошептал нукер, поднимая голову и с ужасом вглядываясь в то страшное существо, которое лежало на постели великого Джихангира, – мне донесли, что в зарайской деревне, рядом с которой стоит Орда, живет местная знахарка, весьма сильная и излечившая многих селян, детей, взрослых и старцев, от самых лютых хворей. Не мое дело давать тебе советы, но скорбь, как червь, гложет мое сердце, когда я вижу твои страдания…
Батый с трудом повернул к нему высохшее посеревшее лицо с запекшимися от сукровицы в коричневую корку, истончившимися до нитки губами.
– Привести… – прохрипел он, обдирая сухое горло словами. – Привести, иначе я здесь к завтрашнему утру сдохну, как шелудивый пес, в собственных нечистотах и блевотине, напрасно дожидаясь помощи от этих невежд… Послать стражу и привести сейчас же…
Утомившись от столь долгой речи, Батый медленно закрыл воспаленные, сочащиеся желтоватой слизью глаза, и опять впал в тяжелое забытье. Очнулся он от того, что кто-то медленно и мягко гладил его ладонью по лицу, – на удивление, прикосновения не приносили боли, от них растекалось тепло, проникая под щеки и губы внутрь, до самых шейных позвонков. Батый открыл глаза, обнаружив, что они не слеплены гноем и он в состоянии спокойно и незаметно для себя самого моргать, как все здоровые люди. Над ним склонилось молодое женское лицо, – довольно крупное, с невысоким лбом, вокруг которого вились светло-русые пряди волос и чуть раскосыми, но в то же время большими глазами насыщенно-голубого цвета, осматривавшими его внимательно и пытливо. Женщина еще раз провела рукой по голове хана, – от макушки к подбородку, потом сжала пальцы в кулак и, отведя локоть в сторону, резко раскрыла ладонь, словно выбрасывая что-то невидимое. Подсунув левую руку под шею хана, она уверенно приподняла его и поднесла к губам плошку с жидкость, от которой шел густой дымящийся пар, пахнувший сочным, но незнакомым травяным запахом.
– Симть,15 – сказала она, кивая головой. – Симик, иля пеле, тон чождалгават.16
Батый глядел на нее, пытаясь разгадать, чьих племен была знахарка. Кожа ее была такая же белая, как и у урусутов, и волосы так же светлы, но скулы выписаны намного четче и упрямее, а нос более прям и строг. Потом он вспомнил, что нукер говорил о зарайцах. Значит, это та самая зарайская шаманка. Странно, она была непохожа на тех зарайцев, которых он видел на берегах Мокши, – их щуплый, пронырливый, как заяц, князек даже приходил к джихангиру на поклон, набиваясь к нему в сокольничие. Впрочем, он особо их не разглядывал: мелкий смирный народец, – у мужчин из оружия одни топоры, да и те они не решаются пустить в дело, предпочитая отсиживаться в лесах.
– Симть, – повторила знахарка чистым высоким голосом. – Тонь порат эзь сак куломс, менель тештьне ёвтнить ханонтень ощтё комсь иеть вадря эрямо.17
Он покорно начал глотать тягучую сладковатую жидкость, ощущая, как, смазывая гортань, она мягко проскальзывает в желудок. «Хуже уже не будет… – замелькали в голове мысли. – Разве не все равно теперь, – я и так на пороге, с ней или без нее. А что будет там и что такое было здесь? Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю…»
Непривычное чувство теплого насыщения разлилось от желудка по всем членам, наполняя их приятной тяжестью, и хан почувствовал, что погружается в приятную розово-сиреневую дремоту, переходящую в крепкий сон, без кошмаров и боли.
Разбудили его опять те же теплые руки, ласково гладившие лицо.
– Сыргузть, – сказала знахарка, начиная разминать пальцами уши Батыя. – Тон удыть кемгавтово част. Саты, мон карман тонь ормань изнямо.18 Турукан!
«Она уже знает, как кого зовут, шустрая зарайская лиса», – подумал Батый, не понимая, доволен он этим или нет, и тоже позвал: – Турукан! – голос был хоть и слабым, но полнозвучным, не сипел, не хрипел и не царапал связки. Хан внезапно осознал, что это была первая спокойная ночь, поведенная без рвоты и поноса.
Прибежавший на зов Турукан переводил восторженный взгляд с Ослепительного на знахарку, выказывая полную готовность исполнить любое повеление. Шаманка, не робея, взяла его за руку и принялась объяснять ему что-то на зарайском языке, слова которого перекатывались на ее губах, будто камушки под быстрой речной струей, выплескиваясь из потока звуками ыть и сть. Нукер покорно слушал и кивал коротко стриженой седой головой, пригибая шею, как ученик слушает учителя, которому невозможно перечить. Наконец она решительно взмахнула рукой, будто отдавая приказ идти в бой. Турукан подошел к хану и, не успел тот даже открыть рот, откинул верблюжье одеяло и начал снимать с него нательную рубаху тонкого китайского шелка. Полностью обнаженный, Батый лежал на шкурах, на полу юрты, а она возвышалась над ним, рассматривая его тело с прерывистой улыбкой, которая пробегала по ее губам легкой змейкой. Он почувствовал детский стыд за свою наготу, как будто ему снова было четырнадцать лет, и он опять входил в шатер к наложнице, дабы обрести мужественность. Рассердившись на самого себя, Батый решительно взглянул на шаманку, но она, не смущаясь, перешагнула через него и, подтянув подол платья, уселась прямо на его чресла, чуть пониже мужского достоинства, которое увядшим цветком грустно лежало на правой ноге. Знахарка вытянула левую руку и Турукан вложил в нее большую глубокую чашу, из которой она ладонью правой руки зачерпнула полную пригоршню густой желтоватой мази. Резкий, пощипывающий ноздри запах разошелся по юрте.
– Аштик састо,19 – строго сказала шаманка Батыю. – Кандт эсить сталмунть, кода-бу стака илязо ули.20
Он кивнул головой, не поняв ни слова и сам удивляясь, зачем кивает. Знахарка поднесла пригоршню с мазью к губам и три раза на нее подула, а затем быстро зашептала свои зарайские заклинания. Проделав так три раза, она начала обеими руками втирать мазь в тело хана сильными поперечными движениями, постепенно спускаясь вниз: от левого плеча к правому, от левого соска к правому, от левой половины живота к правой… Когда мазь в ладони заканчивалась, она зачерпывала очередную пригоршню из чаши, которую, стоя рядом на коленях держал Турукан, глядевший на шаманку завороженно, словно суслик на песчаного удавчика. Первая чаша ушла на переднюю половину тела хана, вторая – на его тылы; усердная шаманка смазала все складки и отверстия, не забыв даже про промежутки между пальцами на ногах. Содержимое третьей чаши пошло на шею и голову, – даже длинные волосы хана были смазаны с помощью деревянного гребня. Закончив, шаманка вытянула руки к потолку юрты и три раза выкрикнула: «Вант! Кунсолок! Теик тевеньть!»21
О проекте
О подписке
