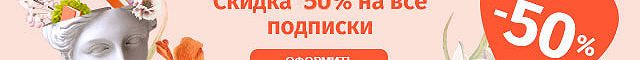
Бегемот лупоглаз. Я уже говорил, да? Черт. Но он правда был лупоглазым. Две крупные бусины, крепко пришитые к серой морде. Я поддеваю одну ножницами, распахиваю их маленькую, чуть ржавую к перекрестью гильотину. Я устал, я измотан и обманут. Вечер, матушка где-то прожигает последние деньги с аванса, который так и не отработает. Это у нас в крови. Но мне шесть, я ничего не знаю. А знаю лишь, что мне хочется отрезать бусинку глаза у бегемота. А знаю лишь, что могу это сделать. Легко. Раз. И бегемот останется одноглазым. Два. И он навеки лишится своих чертовых бусинок. А еще я могу пропороть ему брюхо. Вырвать шматок искусственного меха, распотрошить синтепон. Изрезать его на маленькие лоскуты. Так легко. Так упоительно и щекотно. Бегемот тяжелеет от страха, он не пытается сбежать, не молит о милосердии. Он смотрит на меня – оранжевая футболка, толстое пузо, могучие ноздри, два совершенно рабочих глаза. Полная беспомощность. Его. Полное всевластие. Мое.
Бегемот летит в стенку, отскакивает от нее и валится на пол. Лупоглазо пялится в потолок. Я начинаю рыдать еще до того, как дверь открывается, матушка впархивает в квартиру, видит меня с запретными ножницами наперевес, и несется, и кричит, и размахивается, волоча за собой хмельное облако сегодняшнего коньяка и выдохшихся духов.
Я выскальзываю из памяти, едва замочив в ней ноги. На щеке саднит давно отгремевшая оплеуха. Нет, мама, я не брал, не надо, я не виноват, мамочка, не надо, нет. Да. Надо. Брал. Виноват. Не мамкай мне тут. Так его, так, паршивца, будет знать, как хвататься за острое. Будет знать. И я знаю, видит холодное небушко, точно знаю, что могу все что угодно – врать, красть, мерить женское. Только не ножницы. Только не холодным в мягкое. Только не это, мам, только не так, я не буду больше, не буду, обещаю. Прости. Прости. Я все понял. Я буду знать.
Как знаю сейчас, что Катюши нет дома. Вожусь в холодном замке, прорываюсь через порог в пустоту и безмолвие. Хочется окликнуть ее. Имя почти срывается, но застревает, и я вязну в нем, непроизнесенном. Боюсь закрыть за собой. Вдруг Катя невидимой осталась на пороге, а я возьму и придавлю ненароком.
Катюша почти всегда здесь. Пока я там, где-то, что-то, с кем-то по важному поводу. Она здесь. Топчется в крохотной кухоньке, соединенной с единственной комнатой крошащейся аркой. Переставляет чашки в серванте, гладит лысое чучело, бывшее некогда белкой, а ставшее чупакаброй. Копается в бумажках, собранных на столе высоченными стопками, печатает себе тихонечко на дряхлом компьютере – развалине с выбитыми пикселями на крошечном экране.
Давай купим новый. Зачем? Ну как зачем – чтобы был. Ты же глаза убьешь, смотри, как он мигает. А жужжит! А греется! Однажды эта тварь загорится, слышишь? Слышу, отстань. Возьми мой ноут, а? С ним удобнее. Не возьму. Боже ты мой, ну почему? Нет, скажи, почему? Потому что на моем пишется. А на твоем нет.
И опять утыкается носом, только строчки бегут, опережая мигающий курсор, только пальчики жмут дребезжащие клавиши на кособокой клавиатуре – одна ножка отпала и затерялась, вторая чиркает по столу.
Ручка двери ледяная. Осторожно тяну на себя, поворачиваю замок, накидываю цепочку. Разуваюсь медленно и основательно. Шнурочки, задничек, носок протереть губкой. Молодец. Теперь пальто на вешалку, шарф рядом. Умничка. Можно идти.
На кухне ворчит холодильник. Ладонью успокаиваю его, мол, крепись, старина, еще поморозим. Проскальзываю в арку. Я ничего, я живу тут вообще-то, так что ходить могу, не оглядываясь. Оглядываюсь. Шкаф смотрит на меня через зеркальные глазки. Сейчас они такие же мертвые, как дверные. Словно уходя, Катюша забрала с собой всю жизнь. Изничтожила, высосала, сложила в сумочку то, что осталось, и унесла. Киваю себе зеркальному – тот медлит, но кивает в ответ. Хорош, конечно, краше в гроб кладут… Смахиваю его и опускаюсь на край стула. Катюшин стул у Катюшиного стола, а на столе Катюшин компьютер. Утка, как говорится, в яйце. Вдавливаю кнопку включения.
Дряхлый монстр разражается воем, шумит так, что я затыкаю уши. Сейчас она зайдет, сейчас зайдет. Где бы ни была, куда бы ни уковыляла. Этот гул слышен повсюду. В тайге птицы с криком сорвались в небо. С Альп сошла лавина. Поднялось цунами у берегов Японии. Покачнулись башни Мордора. Вспыхнуло око Сауроново. Пошла рябью Темная сторона. Поперхнулся камрой господин Начальник. И даже в Неверлэнде у феечек пыльца пообсыпалась.
Экран лениво вспыхивает приветственным окном. Дергается рабочий стол, весь – небо, безликое и бесхребетное. Ни пароля тебе. Ни землетрясения. Катя-Катя, как же ты так неосторожно? Дурочка моя.
Руки почти не дрожат, пока я методично открываю папку за папкой. Если есть на свете черновики новой книги, то они здесь, среди обрывочных документов, странных картинок и файлов с неисправными расширениями. Если синопсис написан, то он спрятан здесь, в папке «Рабочая», между первой редактурой «Шкафа», продающимся текстом и шаблоном рассылки по издательствам.
Я ищу. Я открываю и закрываю, листаю, считываю, загружаю и возвращаю на место. Системный блок рычит и греется, я легонько пинаю его, когда он зависает, оборвав мерное жужжание на половине такта.
Я ищу. Я возвращаюсь в черновики, я выискиваю новые слова между старыми. Я тяну ниточки, я пугаюсь, разглядывая на сохраненных снимках перекрученные шибари тел неизвестных полов. Потом. Потом подивлюсь, понасмешничаю в уголке. Потом подумаю, смешно ли мне, завидно, страшно, что Катюша не стесняется смотреть. А я и глянуть боюсь. Отбрасываю фотографии, исключаю из поиска видеоролики. Только тексты. Их много. Огрызки вышедшего романа. Задумки, не попавшие в него. Диалоги, сцены, карточки.
Гоню из памяти, как мы лежим на скрипучем чудовище, прозванном по ошибке кроватью, вокруг – распечатанные листы. Я ходил под дождем в ближайший закуток с принтером, ждал, пока смуглая тетка в замызганном свитерке отпечатает двадцать новых страниц, и брал их, еще теплые, из ее рук, не замечая обглоданных до мяса ногтей. Прижимал к груди живое наше, чудесное, написанное уже почти совсем, нес домой. И вот мы лежим, читаем вслух – нет, здесь повтор, это не повтор, это уточнение, нет, повтор, хорошо, повтор, но оправданный, не спорь, пожалуйста, читай.
Я и думать не мог, что когда-нибудь буду так счастлив, как был на той кровати, обложенный теплой еще бумагой, слушая, как читает Катюша, и отбирая листы, чтобы читать самому, целуя ее, чтобы чувствовать на губах слова, которые мы придумали, мы записали и вот теперь проговариваем по написанному, овеществляя и делая вечными. Текст, нас, меня. Шкаф, из которого я выходил, стоило Кате вжать кнопку включения, запустить текстовый файл и глянуть на меня с ожиданием, ну, что там дальше было, говори, надо добить главу.
Куда ушло оно? Дрожащее внутри ощущение счастья? Поток – в него мы впадали одновременно и так мучительно прекрасно, что никакой оргазм и рядом не стоял. Оргазм, который обрушивался на нас в той же пугающей одновременности, стоило мне войти в нее, в мою Катюшу, прямо на теплых еще листах.
Куда ушло оно? Ведь ушло. Папка «Рабочая» не обновлялась последний год. Я смотрю на дату, не в силах осознать. Ничего нет. Нового не написано. Катя – неряха. Она не моет плиту, пока жир не начнет гореть от включенной конфорки. Катюша забывает чашки, и плесень вырастает на дне, пушистая и радужная, словно ядерный грибочек. Она не выносит мусор, не моет унитаз, не подметает полы. Но лучше сдохнет, чем перепутает файлы, сохранит главу в неверной папке, забудет назвать ее с точным указанием даты.
Нового нет. Есть старое. Много старого. Наше старое. Изданное, оплаченное и потраченное. Нового нет. И не было. Катюша его не писала.
Закрываю папки, выключаю компьютер. Тот вздыхает еще разок и тихнет. Ноги не слушаются, но я встаю, шагаю в коридор, поднимаю цепочку. Возвращаться сложнее. Хватаюсь за стены, расплетаю обмякшее, тащу омертвевшее. Тахта встречает меня знакомой твердостью. Надежный друг. Подтягиваю колени к груди, закрываю глаза.
Тихо-тихо, показалось. Тихо.
До скрежета хочется забраться в шкаф. Продышаться в нем. Раствориться в запахах и темноте. Но Катюша скоро вернется. Уходит она редко, но всегда возвращается. Вот вернется, увидит меня в шкафу и все поймет. Нельзя. Нельзя. Нужно подумать. Вслепую тянусь, обхватываю резной угол, сжимаю в ладони так сильно, как могу.
Тихо. Тихо. Засыпай. Засыпаю, дружок, засыпаю. Надо поспать. Тихо. Ничего. Поспишь. Пройдет. Все пройдет. Спи.
Мне снится бегемот. Громадный бегемот. Бегемот в полнеба. У него могучие лапы, глубокие ноздри. Футболка на нем горит оранжевым пламенем. Он слепо тычется лбом, пошатывается, бьет закрученным хвостиком. Он когда-то был лупоглазым, я точно знаю. Но бусины отрезал один непослушный мальчик. Теперь бегемот ходит по миру, ищет его и обязательно найдет. Найдет и поднимет на острый клык, раскусит пополам, выплюнет и растопчет. Как же он ищет мальчика, мамочка, если у бегемота нет глазок? По запаху, Мишенька.
Ты знаешь, чем пахнет непослушный мальчик? Непослушный мальчик пахнет мочой и страхом, пахнет материнской пощечиной, ржавыми ножницами и макаронным чудищем. Пахнет чужим компьютером. Пахнет обещанным синопсисом, которого нет. Слышишь, Миша, непослушный мальчик пахнет тобой.
Тим
Тим резал лимон тонкими кругляшками. Чем тоньше – тем больше сока, чем больше сока – тем больше вкуса. Сыпал на них крупинки сахара, укладывал на фарфоровую тарелочку в легкий нахлест. Чай почти настоялся, стал крепким, вяжущим. Нежно скрученные листочки дарджилинга распрямились в горячей воде.
– Главное, не лить кипяток, дружочек, – учил Данилевский в далекие времена, а у Тима подрагивали руки, и чайничек в них позвякивал.
Заваривать чай он научился на «отлично». Хоть в зачетке прописывай. Проливом, в чайнике и френч-прессе, в кружке и специальной колбе. Крепкий черный, легкий, как перышко, белый, горькая сенча и жасминовая нотка улуна. Тим вообще легко учился. Выискивать огрехи синтаксиса в чужих рукописях. Стоять в чайной лавке, вдыхать сухую терпкость, различать шоколадные нотки и травяные веточки. Сочинять редакционные записки, презентации и макеты к защите. Покупать элитный чай по чуть-чуть, на пробу, на пару раз. Слишком уж дорого, быстро спивается, перестает радовать. Каждое открытие праздновали как новый год. Смаковали мелкими глотками, перекатывали по языку. Данилевский жмурился, затихал, набрав в рот янтарь пряного ассама.
– Сразу видно, что второй сбор, – одобрительно кивал Григорий Михайлович, наливая еще половину чашечки, и замирал с ней в недрах кресла, грея руки о полупрозрачные края. – Чувствуешь мед? Чистейший мед!
Тим кивал, чтобы порадовать старика, и лучше бы умер от туберкулеза, чем признался, что к чаю равнодушен. Все эти сборы, ферментации и скручивания, попадая в кипяток, становились точно таким же чаем, как и купленное в переходе ассорти из пакетиков. Горький, вяжущий, замудренный чай до сих пор казался ему невкусным. Если уж пить, то с сахаром, закусывая бутербродом. Но Данилевский таял от тепла их долгих чаепитий, оживал, разводил беседы и становился настолько родным, что Тим боялся смотреть на него – вдруг расплачется? Поднимался, уходил на кухню, резал тонкие кругляшки лимона, кипятил воду и давал ей чуть остыть.
– Ну и как твой подопечный?
Данилевский прошаркал к столу, опустился на табурет и перевел дух. Выглядел старик слабым. Тим рванул к нему с проспекта Мира, оборвав встречу, пробежал все эскалаторы, не присел в вагоне и запыхался, шагая по аллейке, подгоняемый тревогой. От нее подташнивало. Тим поднялся на шестой этаж, вдавил кнопку звонка и, пока Данилевский шел открывать, медленно и шумно, успел от души выругать себя – старик же предлагал ключи, столько раз предлагал, надо было брать. Бледный в тревожную серость, Григорий Михайлович долго копался с замком. В полутьме прихожей они коротко пожали друг другу руки, Тим разулся, скинул куртку и сразу пошел заваривать чай, чтобы оттянуть неприятный разговор.
– Подопечный? – рассеянно переспросил он, прикидывая, как бы подвести беседу к врачу и не прописанным толком таблеткам, которые все равно купил в аптеке у метро.
– Ну да, этот, как его?.. Тетерин.
Фамилия пролетела мимо ушей, не отозвавшись. Лимон дал сахарный сок, чаинки медленно дрейфовали, готовые поделиться горчащей сутью, даже чашки, и те, подогретые в теплой воде, выжидающе замерли на медном подносе.
– Готово. – Тим осторожно развернулся, чаинки закружились в легкой спирали. – Пойдемте?
– А может, здесь попьем?
Данилевский смотрел жалобно, как нашкодивший. Худые ноги в домашних флисовых брюках он безжизненно вытянул, а сам уперся локтями о стол и сгорбился, даже голову опустил. Нежная кожица затылка проглядывала сквозь седую пелерину волос. У Тима перехватило горло. Они никогда не пили чай на кухне. Кухня – место приготовления пищи, место ее принятия – в гостиной. Данилевский учил этому с легким удивлением, будто азбуке. Непреложные правила его жизни. Поднос опустился на кухонный столик с легким шлепком. Чай вышел из фарфоровых берегов, Тим промокнул его салфеткой, присел на краешек табурета, приподнял и поставил перед Данилевским чашку, придвинул поближе блюдце с лимоном.
Старик осторожно подул, наклонился, чтобы мелко дрожащая рука не пролила ни капли янтарного варева, и сделал первый глоток. Тим успел заметить, как нервно дернулся под морщинистой кожей острый кадык, отвел глаза. Молчание затягивалось. Нужно было найти тему. Заполнить тишину чем-то, что заглушит тяжелое старческое дыхание, всхлипывающие глотки и покашливание в перерывах между ними. Тим сжал пальцы под столом. Собраться. Срочно. Запах лимона бил в нос. Прямо как странный кумкват на дневной встрече. Расхлябанный образ Шифмана всплыл перед глазами. Тим схватился за него с радостью утопающего.
– Встречался сегодня с Шифманом, – начал он.
Данилевский оторвался от чая, глянул непонимающе.
– Тетерин который. Псевдоним у него – Шифман.
– Подопечный твой. Понял-понял. И как он? Запомнился?
Нагловатая полуулыбочка, кашемировый шарф, небрежно брошенный на спинку стула, перчатки без пальцев. Космы эти отросшие.
– Богемный.
Данилевский потянулся к нему, накрыл пальцы своими, неожиданно горячими. Уж не жар ли? Мало воды пьет? Сухая кожа, глаза желтоватые. Страх заворочался в животе.
– Ну-ну, дружочек, не суди строго по первому взгляду.
Был бы Григорий Михайлович там, видел бы Шифмана с этой скоропалительной бледностью и трагизмом, достойным Печорина, – точно не стал бы его защищать. Скорее, лекцию бы прочел о том, как важно для творца быть искренним человеком, не обязательно хорошим, но искренним, да. Только Данилевского там не было. Тим высвободил руку, повернулся к холодильнику.
– Вам макароны сварить или гречку?
– Не утруждайся! – привычно запротивился Григорий Михайлович, но под его выжидательным взглядом быстро сдался. – Гречу, если не сложно. – Подумал немного. – С грибами.
Пока Тим резал лук, пока жарил грибы и кипятил воду с пакетиком гречки, Данилевский допил чай и ушел к себе.
– Протяну ноги чуток, что-то гудят сегодня.
Нужно было остановить его, схватиться за случайную жалобу, выудить из нее повод записаться к врачу. Или вызвать на дом. Или позвонить кому-нибудь для консультации. Или, на худой конец, просто признать, что помощь нужна. И не завтра, а прямо сейчас.
Но вместо этого в голову Тиму лезла сущая ерунда. То, как задумчиво Шифман переспрашивал каждый его вопрос, как крутил в хищных пальцах чашку, как вылавливал тонкой ложечкой оранжевые ягодки и жевал, морщась от кислоты и сладости, мигом теряя всю напускную загадочность.
О проекте
О подписке