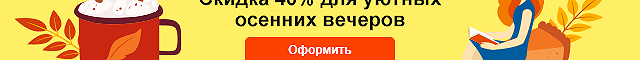
Выбирая между шоссе и разными типами железных дорог, самый дешевый будет, конечно, узкоколейная железная дорога. Если где она уместна, то, конечно, здесь, среди этих неприступных скал, занимая место не более 1½ сажен в ширину, тогда как для ширококолейной нужно 2½, а для шоссе не меньше 3½. А количество земляных работ на этой дороге имеет решающее значение в смысле стоимости ее. Так на Забайкальской железной дороге, близ Сретенска, – на версту, земляных работ приходилось 4 тысячи кубических сажен при цене 6 рублей за куб. Здесь же место более трудное, и надо считать их не менее 6 тысяч кубических сажен, при цене 8 рублей (больше скалистых работ). Для узко же колейной железной дороги потребуется 2 тысячи кубических сажен (она уже, и радиус ее, вместо 150, может быть 35 сажен, вследствие этого является возможность обходить многие скалы). И таким образом на один излишек земляных работ (32 тысячи) хватит выстроить рельсы, шпалы, подвижной состав и проч.
Что касается до провозоспособности этой узкоколейной железной дороги, то она не уступит ширококолейной здесь, так как уклоны ее по реке будут незначительны, а при таких условиях и разницы нет в силе тяги.
Благодаря, как я сказал, любезности С. Г., мы не только не скучали, но провели наше время незаметно в Сретенске.
С С. Г. мы старые приятели, лет двенадцать назад работали вместе на постройке одной дороги. Тогда мы оба были еще молодыми строителями. Теперь С. Г. занимает большое, ответственное место самого трудного участка дороги.
Среди гостей С. Г. крупный золотопромышленник, уже глубокий старик, но энергичный, бодрый, сухой, как мумия, с длинной, как у Черномора, седой вьющейся бородой.
Он помнит основание Благовещенска, Владивостока, он знает всю эту Сибирь, как себя, и пользуется большим значением здесь. Его зять из молодых технологов. Он устроил здесь цементный завод, на миллион пудов выделки в год, и в один год пустил его в ход. Что это для Сибири, какая энергия нужна для этого, поймет и оценит только здешний житель.
Завод в пятнадцати верстах от Сретенска, и я, Н. А., доктор и С. Г. ездили на этот завод.
Громадное четырехэтажное здание из дерева, с железной обшивкой, все в удушливой едкой пыли от глины, песка, размолотого камня и угля. В этом аду все работники только китайцы. Грязные, потные, с косой, обмотанной вокруг головы, полунагие они лежат каждый около своей печи, и их поднимает владелец завода резким, коротким: «Хэ!»
И это «хэ», как эхо бича из «Хижины дяди Тома», тяжело режет ухо.
Владелец – экономный, расчетливый человек. Он напоминает тип героя из «Паяцев» Леонковалло в первом действии, когда торжествующий хозяин выезжает на сцену: он бьет в барабан и смотрит, бьет и опять смотрит, словно считает: и эта телега, и этот осел, и этот весь цирк, и жена в тележке – все это его и только его. И все это даст ему денежки: круглые, золотые, и все они будут его и только его.
Дом владельцев со всеми удобствами и даже электричеством, но впечатление опять: все это так, между прочим, как и сама жизнь в доме, а главное там, в этой пыли и вони, где затрачен миллион, и все к нему приспособлено, и самой жизни нет, не чувствуется.
Не хочется ни миллионов этих, ни всей этой прозаичной жизни. Доктор привез было свою гитару, но она так и пролежала на пароходике.
Две женских фигурки – миловидные – мелькали перед глазами. Но это как-то так, как второстепенное.
Тоже «женское», как величал сибирский ямщик своих женщин.
У рабочего человека, без капитала, С. Г. куда теплее и веселее.
8 августа
Третий день на маленьком буксирном пароходе. Мы единственные пассажиры.
Ночевали сегодня посреди Шилки. По обыкновению, в три часа ночи спустился туман, и простояли до восьми утра.
Ночь тихая, сырая и гулкая. Это вода Шилки, мутная, озабоченная, обгоняет нас. Скорость воды здесь, по определению капитанов, до ста верст в сутки. Вероятно, это так и есть, так как плесов, то есть тихих мест на реке, где нет струек и водяных вихрей, очень мало.
Часам к десяти утра выяснилось, и холод сразу сменился порядочной жарой, – одна параллель с Харьковом чувствуется.
Все те же гористые, пористые леса, пустынные берега. В них медведи, козы. Ниже верст на шестьсот начнутся тигры. Через двадцать – тридцать верст попадаются одинокие домики – это почтовые станции, их семь, или, как называют их здесь, – семь смертных грехов.
Они тянутся до села Покровского, там, где сливаются Аргунь и Шилка, откуда, как известно, и начинается уже Амур.
Переезд от такой почтовой станции до другой, в лодке, занимает около суток.
Места живописны, иногда горы громоздятся и ближе жмутся к реке, иногда расходятся и, покрытые синей дымкой, далекой декорацией стоят на горизонте.
Но все пустынно: нет людей, и не тянет к себе своей пустыней эта далекая сторона; увидеть и забыть.
Было пять часов вечера, когда мы подошли к устью Аргуни.
Аргунь вышла под острым углом из-за ряда высоких, зеленым лесом покрытых сопок (или салачков, как здесь называют).
На мгновение мелькнула высокими горами сжатая долина Аргуни и даль уже китайских владений.
На острой косе, между Аргунью и Шилкой, расположилось наше небольшое казацкое селение – Усть-Стрелка[3]. Отсюда, ниже, весь правый берег уже китайский.
Такой же пустынный, покрытый рублеными лесами, как и наш. На его берегу стога сена – это казаки наши снимают у китайцев их угодья в аренду.
По китайскому берегу в голубой блузе и широких штанах, с косой сзади, пробирается китаец – это нойон, начальник пограничного поста. Вот его избушка. Этому нойону пароходчики дают несколько рублей и рубят китайский лес на дрова, на сплавы, и так же поэтому мало леса у китайцев, как и у нас. Молодяжник растет, а от старого только следы, – дорожка, по которой спускали его со стосаженной высоты. Много таких следов. Спущенный к реке лес вяжется в плоты и спускается к Благовещенску.
А еще через полчаса мы пристали и к станции Покровской.
На мгновение улыбнулась было надежда, что стоявший у берега большой пароход повезет нас вниз по реке. Но, увы! большой пароход идет вверх, а вниз, часа четыре тому назад, ушел почтовый, следующий же пойдет не раньше трех дней.
Поистине в нашей злополучной поездке какая-то скачка с непреодолимыми препятствиями: и чем больше напряжения с нашей стороны, тем все хуже выходит.
На наш вопрос: сколько наш пароход взял бы за доставку нас в Благовещенск, ответ: «Пятьсот – шестьсот рублей».
Этого барьера по крайней мере не перескочишь. Сегодня ночуем на пароходе, а завтра перебираемся на берег, если, впрочем, найдем квартиру, так как ни гостиниц, ни постоялых дворов нет. Ни того, ни другого не желают всесильные здесь казаки.
Вечереет. Мы стоим у берега. Зеркальная поверхность воды, прекрасный закат и тишина. Изредка только нарушается она вздохами нашего парохода. Как загнанное животное при последнем издыхании, он вздыхает тяжело-тяжело.
Вот розовой мглой охватило воду, вспыхнула она на мгновение в ответ небу ярким заревом и задымилась вечерним туманом.
Огоньки загораются на берегу нашем и китайском.
Село Покровское на небольшом от берега возвышении – все, как на ладони: две церкви, несколько зажиточных домов, но большинство бедных.
– Вот казаки, прямо сказать, грабят, а нищими живут: все кабак…
Это говорит пришедший к нашему капитану в гости капитан большого парохода, на который мы возлагали было наши надежды. Мелкая фигурка, блондин, лет тридцати пяти. Полный контраст с нашим. Наш капитан старый морской волк, громадный, с кожей темной и блестящей, как у моржа, шестидесяти двух лет, молчаливый и несообщительный. Новый же капитан охотник поговорить, и в полчаса он рассказал много интересного. Он сам казак, но признает, что ленивее казака ничего нет на свете.
С постройки Забайкальской и Уссурийской дорог, когда появились в качестве рабочих китайцы, казаки возненавидели китайцев. В борьбе с ними все меры дозволительны. Их убивают, обкрадывают.
– Вы слыхали, вероятно, что вот китайцы детей в котлах варят. Выдумка голая: знает, что врет, и врет, – врет и верит уже сам: сам себя разжигает… Вчера пришел я с пароходом сюда; атаман на пароход: так и так, на каком основании китайцев-пассажиров на пароходе везете, паспорты у них неисправные. – «А я откуда знаю? Я не полиция… Пассажир сел, деньги отдал, больше до меня не касается». А вся штука в том, что эти пассажиры взялись по три копейки с пуда выгружать наш груз. Так вот откажи им, а казакам по пятаку отдай. А дай по пятаку, по гривеннику запросят, сами себя не помнят. Составил протокол, к мировому тянет меня. Ну, однако, мировой не то, что было: можно сказать, с ними пришел и закон, наконец, старое пора и забыть.
– Хорошее было старое?
– Денной грабеж был. У какого-нибудь полицейского чина в полной власти… Как вот у китайцев, такая же организация…
– А китайцы ваши действительно были без паспортов?
– А без паспортов, шельмецы… Есть у них что-то по-ихнему написанное, а что такое, кто разберет? Настоящих паспортов ни у одного нет, у всех, кто здесь работает… идут и идут… и нельзя их не брать в работу: кто ж работать будет? Из-за чего же? Мы все из Маньчжурии покупаем: и хлеб, и мясо, и водку, а без них мы досиделись бы до двадцати рублей за пуд говядины, как было во время Желтугинской республики…
На берегу в раздумье, слегка покачиваясь, стоит рабочий в блузе, высоких сапогах и слушает, что говорит капитан.
Лицо его слегка вспухло, он светлый блондин, маленькие умные глаза его впились в говорящего.
На последние слова капитана он раздраженно говорит:
– Не придется…
– Что не придется?
– Не придется, и господин прокурор господ китайцев, прохвостов и жуликов, вон выселит всех до последнего на ту сторону (он показывает на китайскую границу)… чтобы и казаки могли есть хлеб, который им посылается судьбой. И не для того посылается, чтобы его китайским тварям отдавать. Так-с… На копейку бы просил казак всего больше, и того нельзя уважить…
– Вот и слушайте его… А скажите им, что в России за пятачок семьдесят верст везут, да нагрузят и выгрузят…
– Россия нам не указ.
– Не указ? А в Америке копейку за это самое платят.
– И Америка не указ, а что вот господа пароходчики недостаточно гуманны к рабочему русскому человеку и в свое время поплатятся за это, так это тоже верно-с.
– Ты рабочий? Пропойца чиновник…
– Вот…
Пропойца проговорил это с горечью, протянул руку и вскрикнул патетически:
– О незабвенный Некрасов… Помните-с? Кому вольготно, весело живется на Руси? Купчине толстопузому…
С трагическим жестом и энергично покачивая головой, он отошел к небольшой группе казаков.
– Вот и разговаривайте с ними, – с не меньшей горечью сказал мой собеседник, – китаец в день зарабатывает до десяти рублей на выгрузке, русскому мало: дай двадцать, а за тысячу верст провоза мы берем всего двадцать копеек. Из них за нагрузку отдай пятак, да пятачок за выгрузку, что ж останется? И ведь так и будут сидеть, так и сидят, поджавши колени, вот как на… Ну-с, мне пора…
Капитан ушел, а я остался. Темнеет. Синеватый прозрачный туман заволакивает горы, даль, село. Дымится река, все так же тяжело стонет пароход. Какая-то фигура подошла к берегу.
– Господин…
Я подхожу. Пропойца чиновник.
– У вас выгрузки не будет?
– Завтра…
– Вы нам?
– Вам…
– Я интеллигентный человек: копейки денег нет.
Я бросаю монету, он ловко ловит и с ужимками быстро скрывается.
Пока стоял он, слушая разговор наш, прошло больше часа.
В это время шла выгрузка, и он мог бы заработать ровно в десять раз больше, чем то, что получил от меня.
– Истинно образованного человека сейчас видно, – раздается его поощрительный голос из темноты.
Мне стыдно и за себя и за него, и я быстро ухожу в каюту.
9 августа. Село Покровское
Месяц, как выехали мы из Петербурга, а до Владивостока еще дней пятнадцать. Вот и короткий путь. Думали сделать его меньше месяца, но он вышел длиннее всякого другого. А что он стоит, этот путь… При всех лишениях, с отсутствием горячей пищи включительно обойдется до тысячи рублей на человека. Тогда как на пароходе пятьсот рублей со всеми удобствами культурного пути. Сколько вещей уже разворовано, попорчено, во что превратились наши новенькие чемоданы! Все подмочено, отсырело. А ощущение своего полного бессилия в борьбе со всеми случайностями и непредвиденностями этого пути, где в лице каждого писаря, содержателя почтовой станции, ямщика, пароходчика является какой-то неотразимый фатум, с которым нельзя бороться, спорить… Изломанные, измученные, разбитые ужасной дорогой, нелепыми препятствиями, вы, наконец, погружаетесь в какое-то кошмарное состояние с одной надеждой, что кончится же когда-нибудь это.
Проснулся в семь часов. Туман густой, серый, сплошной висит кусками какими-то. Пронизывающая сырость. Все спят еще. Не хочется спать: горечь бессилия грызет, – лучше вставать. Встал, оделся и вышел. Наши вещи уже вынесены на берег. Идет нагрузка муки на пароход. Рабочие всё китайцы. Работают сегодня по четыре копейки с пуда.
– А казаки?
Спят казаки.
Носят крупчатку. Вся крупчатка здесь до Читы из Америки. В Николаевске она 2 рубля 75 копеек (за 55 фунтов), в Сретенске – 4 рубля 50 копеек. Крупчатка соответствует нашему второму сорту.
Пью чай на палубе. Туман расходится. Усть-Стрелка верстах в четырех выглядывает уютно на своей косе. Казаки просыпаются. Целый ряд на берегу маленьких лодок-душегубок. На них ездят по реке на ту сторону. Ребятишки гурьбой соберутся и плавают в этой валкой и ненадежной лодочке: вот-вот опрокинется она – звонкий их смех несется по реке.
Душегубка побольше пришла с той стороны: в ней трое. Казак постарше, в шапке с желтым околышком, серой куртке с светлыми, пуговицами, с желтыми нашивками, казак помоложе и третий, какой-то рабочий: у них в лодке таинственный бочонок – водка китайская.
Привезли с той стороны барана нам. Баран худой, и в России красная цена ему 4 рубля, здесь – 9 рублей и шкура хозяину. Пуд мяса выйдет. Сейчас же на берегу зарезали его. Снимают шкуру, вынимают внутренности.
Ноги, голову и часть барана подарили команде, половину передка – капитану, внутренности забрали китайцы. Они бросили работу и, присев на корточки, моют эти внутренности в реке.
Доктор выглянул. Прошел на берег, осмотрел барана:
– Дорого…
– В покупке участвуете?
Доктор экономен.
– Нет.
– Порциями будем отпускать. Сколько дадите за порцию?
– Тридцать копеек.
Бекир, уже догнавший нас, смеется. Бекир очень рад барану, называет его не иначе, как барашек, и хвалит.
Но кухарка нашего парохода, старенькая, как запеченное яблоко, говорит:
– Дрянь баран: тощий, смотреть не на что.
Бекир не унывает:
– Ничего, хорош будет.
H. E. проснулся. Ему хочется сегодня поохотничать.
Надо распаковать оружие: кстати, увидим, что с ним сделалось в дороге. H. E. и доктор занялись этим на берегу. Остальные пьют чай на палубе.
– Ну, все пропало, – кричит H. E., – промокло, заржавело, все рассыпалось.
– Глупости, – кричит доктор, – разве могут патроны промокнуть?
Мы идем все смотреть. Промокнуть не промокло, но вид некрасивый: плесень, ржавчина.
– Надо скорее чистить, – говорит доктор.
Он чистит, разбирает. Кругом казаки. В ружьях они понимают и любят их. Хвалят магазинку с разрывными пулями на медведей и тигров. Хвалят охотничьи ружья, но в восторг приходят от карабинки-револьвера Маузера.
– Эх, и ружья же нынче делать стали.
Прицеливают, рассматривают.
– Не продаете?
– Нет.
– А то продайте: пользу дадим.
Китайская фелюга прошла. Широкая черная лодка, сажени в четыре, с парусиновым навесом посреди… Четыре китайца на веслах, два на руле, один выглядывает из-под навеса. Посреди мачта, и к ней прикреплен римский парус.
– Что они везут?
– Водку свою казакам, а то опиум.
Подальше у берега стоит более нарядная раскрашенная фелюга, тоже китайская. Посреди устроена деревянная будочка, раскрашенная, узорно сделанная.
По берегу гуляет китаец, молодой, одетый более нарядно. В костюме смесь белых и черных цветов. Туфли подбиты толстым войлоком в два ряда. Он ходит, кокетливо поматывая головой, выдвигая манерно ноги.
– Кто это?
– Так, писарь какой-нибудь… – говорит наш капитан. – А называет себя полковником… Казаки спрашивают: «А сабля твоя где?» Мотает головой. Так думает, что если скажет полковник, – важнее будет. На пароход ихнего брата много придет. «Я полковник, мне надо отдельную каюту…» В общую с людьми его, конечно, не посадишь…
– Почему?
Наш старый капитан смотрит некоторое время недоумевающе на меня.
– Так, все-таки же он нечистый… Кому приятно с ним?
– Злые китайцы?
– Когда много их и сила на их стороне, – люты… А так, конечно, ниже травы, тише воды… умеют терпеть, где надо.
В час дня пароходик наш «Бурлак» ушел назад в Сретенск, а мы переселились в слободу.
Наш домик в слободе из хорошего соснового леса, сажен шесть в длину, с балкончиком на улицу. Обширная комната вся в цветах (герань, розмарин), прохладная, вся увешанная лубочными картинками.
После жары улицы здесь свежо и прохладно, но на душе пусто и тоскливо, и с горя мы все ложимся спать. А проснувшись, пьем чай. После чая доктор с Бекиром принялись за разборку своих вещей, а мы, остальные, сидим на балконе и наблюдаем местную жизнь.
Дело к вечеру, на улице скот, телята, собаки, дети, взрослые, едут верхом, едут телеги.
В перспективе улицы, в позолоте догорающего дня, получается яркая бытовая картинка. А на противоположной стороне улицы огороды – в них подсолнухи, разноцветный махровый мак, громадный хмель, напоминающий виноградные лозы.
Проходят казаки, казачки. Народ сильный, крепко сложенный, но оставляющий очень многого желать в отношении красоты. Главный недостаток скуластого, продолговатого лица – маленькие, куда-то слишком вверх загнанные глаза. От этого лоб кажется еще меньше, нижняя часть лица непропорционально удлиненной. Это делает лицо жестким, деревянным, невыразительным. Напоминает слепня – что-то равнодушное, апатичное.
– Просто заспанные лица, – язвит Андрей Платонович.
На балконе появляются доктор и H. E. Молодое лицо H. E. все такое же бледное, слегка опушенное русой бородкой, добродушные большие серые глаза. Сегодня он проходил верст десять на охоте. – Надо пристреляться к ружью.
Улица стихла. Вечереет. Потянуло прохладой и ароматом лесов. Бекир приготовляет все для шашлыка из баранины.
– Ну вот выискалась долинка, вы живете здесь, а там за этими горами что? – спрашиваю я хозяина, старого казака. Я показываю на север, где в полуверсте уже встают горы.
– Там горы да камни.
– И далеко?
– По край света.
– Не сеете там?
– И не сеем и не косим. Медведь там только да коза. Здесь насчет посева…
Казак машет рукой.
– Ну, вот вы говорите, что на каждого рожденного мальчика наделяется сейчас же сорок десятин, – вероятно, уже немного свободной земли?
– Где много. Если б не умирали…
– Давно живете здесь?
– Сорок лет, как основались, здесь.
– У вас старинных женских одежд нет или всегда ходили так?
– Как так?
– Да вот в талию?
– Прежде рубахи да сарафаны больше носили, а нынче вот мещанская мода пошла.
Мода очень некрасивая: громадное четвероугольное тело слегка стиснуто уродливо сшитой талийкой, а между юбкой и талией торчит что-то очень подозрительное-по чистоте. Нет грации, нет вкуса, что-то очень грубое и аляповатое. Нет и песен. Прекрасный предпраздничный вечер, тепло – где-нибудь в Малороссии воздух звенел бы от песен, но здесь тихо и не слышно ни песни, ни гармонии.
Молчит и китайский берег. Мгла уже закрывает его, потухло небо, и река совсем темнеет, и безмолвно пуста улица – спит все. Иногда разносится лай громадных здешних собак. Пора и нам спать. И спится же здесь: сон без конца. Прозаичный, скучный сон, без грез и сновидений. А зимой-то что здесь делается?..
10 августа
Хотели вчера пораньше лечь спать, но увлеклись приготовлением шашлыка и засиделись долго.
Учителем был Бекир, конечно. Жарили во дворе, у костра. Шашлык вышел на славу. Было ли действительно вкусно, или нравилась своя работа, но он казался и сочным и вкусным, таким, словом, какого мы никогда не ели.
Бесплатно
Читать книгу: «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке
