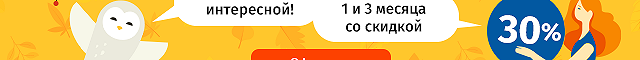
Что-то не так, но не это главное, быстро посмотреть, что с Уьмасом. Зайдя в комнату, он увидел, что братишка проснулся, рядом с ним на маленькой скатёрке стояла глиняная коса с разными орехами и кишмишом, пиала с чаем и небольшой чайник. Лайло ласково гладила Ульмаса по его бритой голове, обвязанной свежей тряпкой. Увидя Али, махнула рукой и отправилась на задний двор. Без хозяйского догляда и редиска расти не будет. Али поёжился «Как это я утром про брата забыл, я же думал, что быстро вернусь, но задумался». Ему стало стыдно, но брат ничего не сказал. Лицо у него было чрезвычайно довольное.
– Это чему ты с утра улыбаешься? И скажи мне, что ты видишь и как? И где лоханка под отбросы? – Али решил, что если брат улыбается, то всё хорошо.
– Али, ты вот ночью на балахане спал, а я здесь. А в соседней комнате матушка с Нафисой шептались. Оказывается Нафиса влюблена в Закира, и сегодня батюшка пошёл к дедушке Одылу договариваться насчёт свадьбы. Дедушка Одыл тоже будет с нами новый дом в Бухаре строить. Они вместе будут строить. Вот. Они мне всю ночь мешали спать своими шептаниями. Утром ещё матушка с батюшкой долго разговаривали, но уже громко. Никаких секретов в доме нет, вечером шепчутся, а утром во всё горло кричат! Вот мы с тобой можем секреты хранить, а они все какие-то неразумные, как дети. – Безбородые молодые лица двух хитрецов склонились друг к другу и воспоминания о больших и малых секретах, хранящихся в их головах, заставили обоих улыбаться! – А про меня все забыли. Я чего ещё хотел сказать, мы точно сами дом будем строить. Если бы один батюшка решал, то он мог и передумать. А дедушка Одыл нас сильно любит, будет всегда защищать и позволит нам всё сделать самим.
Круглое лицо Ульмаса с крохотной горошиной носа, зажатого пухлыми щеками, было таким довольным и умиротворенным, что Али опять заулыбался.
Да, дедушка Одыл всегда на их стороне. У него самого уже трое внуков, потому что их сестрица Айгуль родила двух девочек и мальчика. Но они ещё маленькие, старшей дочке Дильбар всего одиннадцать лет, а внуку Киличу десять. Про Бахор и говорить нечего, мелочь пятилетняя, даже разговаривает ещё плохо. Бобо их любит. Дедушкин охранник научил их драться. Бобо всегда с ними разговаривает, про разные страны рассказывает, про большие красивые здания. Жаль, что он рисовать не умеет, а то бы нарисовал всё то, что когда-то видел. Дедушка Одыл рассказывает так понятно, что и без картинки всё видно.
Эх, если бы Ульмасу можно было вставать, они бы побежали вдвоём в дом к деду, там Айгуль. Она уже вчера прибегала, сидела возле Ульмаса, гладила того по голове, вздыхала и говорила разные ласковые слова. И Гульчехра приходила, это та, которая повитуха. Её так сильно уважают все в махалле! Она всегда занята, но всё-таки нашла время и забежала проведать младшего братика. Только Ойнисы не было, но она редко приходит в гости. Далеко и некогда ей. Четверо детей и она опять беременная, скоро родить должна. Дядя Анвар не любит, когда его молодая жена уходит из дома, есть такое слово смешное. Он свою жену ревнует, так матушка говорит. Это значит, что муж, то есть дядя Анвар, боится, что их сестрица Ойниса на какого-то другого мужчину посмотрит. А что, неужели замужней женщине нельзя смотреть на мужчин, она же не слепая?
– Ульмас, смотри что я придумал с домом. – Али разложил на курпаче чертёж и стал показывать братишке. Тот быстро понял, что новый план удобное, чем те, по каким строят сейчас. У каждой комнаты есть свой выход на улицу, зимой холодно, всё тепло будет выходить через двери. – А если пристроить к дому совсем маленькую комнатку и через неё заходить в гостиную, то тепло выходить не будет совсем.
– Ты это про какую комнатку говоришь? Для чего она нужна? – Ульмас повертел головой и решил. – Ты прав, туда можно повесить на стену крючки для верхней одежды, чтобы она в комнате не валялась на сундуках. И поставить разные подставки для обуви. Для каждой пары будет своё место, а то всё время путается обувь. Ты же всегда мои чорики обуваешь…
– Неправда, твои чорики мне велики, у тебя такие же большие ноги, как и у брата Карима, а у меня ноги меньше, чем у тебя. – Али действительно обувал чорики брата, свои пока найдёшь, пока натянешь, а эти растоптанные.
– Если они тебе и велики, то зачем обуваешь не свою обувь? Если так будешь делать, я твои праздничные кавуши обувать буду. Это те, что брат Карим подарил в прошлом году на Навруз. – Несмотря на то, что семья не считалась бедной, все вещи носили поколениями, от отца к сыну, от старшего брата к младшему. Многие вещи служили десятилетиями. Новые вещи были редкостью и обновки были дорогие. – Да, эта маленькая пристройка будет хорошим подспорьем. Сразу два удобства тепло будет сохраняться зимой, а так же будет место для верхней одежды и обуви.
Халил был доволен всеми разговорами с кудо Одылом и младшими сыновьями. Те поспешили похвастать своими новыми изобретениями в строительстве. Всё это привело в радужное расположение духа. Его любовная возня с Лайло затянулась намного дольше, чем обычно. Лайло, умиротворённая приятными новостями, отвечала на его ласки, радуясь тому, что пока он дома и ещё не скоро уедет. Но из дневного разговора с матушкой-сестрицей поняла, что отъезд дело решённое и неизбежное. Поэтому пока он здесь, не нужно отказываться от такого блага, как совместная ночь. Когда Халил заснул, она полежала какое-то время на спине. Потом свернулась клубочком рядом с мужем и заснула под его мерное посапывание.
Ей приснился странный сон. Она редко видела сны. От безмерной дневной усталости Лайло по ночам спала как убитая, даже редко ворочалась. Ей снилось, что от их ворот между дувалами* едут три арбы. В них были запряжены не быки и не лошади, а ящеры. Она никогда не видела варанов, те водились в пустыне. Но представляла себе, какими они должны быть, потому что в вечерних сказках главными героями часто были драконы. Ящеры из сна были большие, их головы поднимались выше тополей, растущих вдоль арыка. Жуткие перепончатые лапы заканчивались корявыми и страшными когтями, взрывающими землю при каждом шаге.
Несмотря на нелепость увиденного ею, ящеры были взнузданы, а поводья держали в руках сидящие на козлах Ульмас, Али и как ни странно Лола, её дочка. В арбах, держась за узлы и разнообразный скарб, сидел её муж Халил, дядюшка Одыл, сестрица Нафиса и Зия-ака. Они смеялись, переговаривались друг с другом и с возницами, но совершенно не обращали внимания на людей, окруживших несуразные повозки. Кроме соседей на улице было много незнакомых людей. Некоторые из них были одеты в золототканые халаты. Другие в совсем нелепые кургузые то ли жилеты, то ли куйнеки*. Все весело и шумно переговаривались и показывали на мальчиков, сидящих в повозках.
Грохот колёс был такой громкий, что Лайло невольно проснулась. За окном бушевала весенняя гроза, молнии прорезали небо из конца в конец. Грохот стоял такой, что во всех окнах большого дома загорался свет. Лайло старалась вспомнить, не осталось ли во дворе что-то такое, что должно находиться под крышей. Нет, вроде всё хорошо спрятано. Халил не проснулся, и Лайло решила досмотреть интересный сон, но тот не возвращался. Капли дождя стучали по крыше балаханы, построек, по голым пока ещё веткам виноградника и кряжистой чинары. Лайло радовалась – весенние дожди очень полезные для урожая, тем более что вся земля была уже перепахана. Засыпая, Лайло похвалила себя за предусмотрительность. Не хотели работники пахать, но она их заставила. Подсохнет земля и можно сеять, урожай будет богатый.
Сильнее всех желанным новостям радовалась Нафиса. Она так настрадалась за последние годы от собственной глупости и молчания, что теперь тараторила не переставая. Как она будет любить своего ненаглядного жениха, как она постарается угождать ему во всём, да что она для этого будет делать. Старшая матушка, послушав этот лепет, зазвала её к себе и строго одернула:
– Да ты совсем глупая курица! Это кто же мужу во всём угождает? – строго шипела она, старясь, чтобы ни один мужчина в доме не услышал этих откровений. – Любить мужа тебе никто не запрещает, но только полоумная дурочка будет ползать перед мужчиной на коленях. Ты перед отъездом погости у Ойнисы да посмотри, как она своим мужем вертит. Тот словно волчок в разные стороны крутится, только бы её улыбку увидеть. А та не очень-то щедра на ласки! Зато муж у неё в кулаке, как бусинка в поясе! А ты – угождать, любить! Хочешь, чтобы он об тебя ноги начал вытирать, а потом вторую жену завёл? Если дом большой будет, а Закир станет мударрисом*, почему бы и нет? – умела Зумрад вразумить любого. Жизненного опыта у неё было больше, чем во всех сундуках добра. Нафиса внимательно слушала, понимая, что старшая женщина ей только добра желает.
– Как я могу это сделать? – у Нафисы задрожали губы…
– Мужчины ни в коем случае не должны догадываться, что мы ими вертим. Запомни, женщина – шея, а мужчина голова, куда шея поворачивается, туда голова и смотрит!
– Спасибо, матушка, большое спасибо! – впервые Нафиса назвала Зумрад матушкой, а не тётушкой. – Она решила, что сначала поговорит с сестрицей, та тоже все уроки Зумрад переняла в полной мере. А потом у Ойнисы и погостить можно будет. Новую вышивку ей покажет. Ойниса совсем перестала вышивать на заказ, но для себя всегда выдумывала новые узоры и щеголяла по Афарикенту в таких платках, что у всех остальных дух от зависти захватывало!
Белая, чёрная, серая – какая полоса будет следующей в жизни семьи плотника Халила…
Глава 2. Ветра перемен
– Великий хан, тебе налить ещё кумыса*? – невозможно спутать голос Зульфикара с голосом другого человека. В нём соединились интонации близкого друга, единственного брата, любящей женщины, учителя, болеющего всей душой за талантливого шагирда, да просто обеспокоенного человека. А ещё это был голос требовательного кукельдаша*, тщательно выполняющего свои обязанности по сохранению жизни и здоровья великого хана. Особых причин ни у него, ни у других окружающих бояться за меня не было. Я несколько дней нахожусь в странном состоянии – вроде бы жив, здоров, полностью осознаю, где нахожусь и что делаю. Но я сам на себя не похож и хорошо это понимаю. Мне всегда было смешно слышать обращение «Великий хан» и «ты», но вот уже дней десять я не улыбаюсь, когда Зульфикар это произносит. Мне не смешно и неинтересно, как меня называют и для чего ко мне обращаются. Я ничего не хочу слышать, не желаю ни с кем разговаривать и никому ни на какие вопросы не стану отвечать. Скучно…
Я смотрю на букашку, ползущую по зелёной травинке, и думаю о том, что наступит осень и эта букашка, так же как многие другие насекомые отправится на тот свет. Некоторые значительно раньше. Ими позавтракают или пообедают майны*, воробьи, возможно другие птицы. Таков круговорот жизни: либо ты кого-то съешь, либо тобой кто-то поужинает. А для жучков и других насекомых есть рай или ад? И что они там делают? Неужели в раю они не должны ползать в поисках пищи, а только греться на солнышке и слизывать нектар? А чем? У них есть язык или его подобие? Рот есть, по крайней мере имеется отверстие, похожее на рот. Жёсткие оранжевые крылья маленького насекомого трепетали. По обе стороны от них лохматые суставчатые лапки резво шевелились, неся жука прямо к моим сапогам. Если сейчас я не отвечу Зульфикару, он заползёт в палатку и раздавит моего жука.
– Нет, не хочу. У меня скоро этот кумыс из ушей польётся. Сколько же можно его пить? – я отвлёкся от ленивого разглядывания жука. Впервые за долгие годы, а может быть, единственный раз в жизни Зульфикар слышит, что я не хочу кумыса. Но я не хочу не только кумыса, я ничего не хочу. Я хочу сидеть в палатке с откинутым пологом, бездумно смотреть наружу. Мне тоскливо наблюдать розовеющую полоску на горизонте. Она осталась от показавшегося на краю земли солнца. Полоса постепенно тает, не оставляя после себя даже воспоминаний. Небо вдали постепенно становится чисто-голубым, без примеси других оттенков. А ещё я невольно сквозь туман глухого равнодушия замечаю, что наступает весна.
– Ты не хочешь кумыса? Почему? Кумыс свежий, холодный, правда, немного кисловатый, но ты именно такой любишь! Что случилось? Ты уже не первый день сидишь у входа в палатку и выходишь из неё только по нужде! Ты же сам хотел сюда приехать. Почему теперь тебе всё вокруг не нравится, и ты ничего не делаешь? – Ещё немного и Зульфикар позовёт табиба*. Он не понимает, что я совершенно здоров.
Это не болезнь, у больного человека что-то обязательно ноет, зудит, тянет, свербит, мешает. У меня ничего такого нет. Разве что душа? Но я и её не ощущаю. Может умереть душа, если тело живо? Но даже над этим мне не хочется размышлять. После сражений я часто наблюдал, как вырвавшись живым из круговерти боя, молодой воин сидит, судорожно сжимая в руках окровавленную саблю, и молчит. Он ничего не видит вокруг, слух его отключился. Можно кричать ему в ухо всё что угодно, поносить самыми последними словами, он не услышит. Он ничего не помнит из того, что с ним произошло. Он даже не осознаёт, что остался жив. Но я уже далеко не молод и давно сам не скачу впереди войска навстречу неминуемой гибели. Моё нынешнее состояние очень похоже на ледяное спокойствие палача, пытающего жертву. У того нет чувств. У него есть работа.
Последние полгода я не брал саблю в руки, не сражался, хотя тщательно готовился к войне. Я приказал казнить немногих, но это были преступники и лиходеи. Да и тех за доказанные беззаконные злодеяния. Странно, что именно сейчас я потерял вкус к жизни. Я всегда что-то созидал, производил, творил, куда-то бежал, торопился, подгонял других. Кроме этого ел, пил, спал, навещал гарем, смеялся, иногда плакал. Всё это делал, как хорошо отлаженные, навсегда заведённые часы.
В какой-то миг завод кончился и пружинка ослабла. Но никто не удосужился взять в руки ключик и запустить часы моей жизни. Обычно я сам себя гоню вперёд, как тороплю всех вокруг. Но пока что мне хочется сидеть и беспечно смотреть на проплывающие по весеннему небу облака. Я не хочу ни во что вникать, не хочу созерцать бурлящую вокруг меня жизнь. Сам себе я напоминаю не совсем нормального человека. Я просто старик, впавший в детство. Осталось начать пускать слюни.
По вечерам я не снимал халата и лежа на боку, сворачивался в клубок. Подтягивал под себя ноги и даже не всегда снимал сапоги. Так я раньше не делал даже на поле сражения. Ноги обязательно должны отдыхать. Вдруг придётся на следующий день много ходить или скакать верхом? В темноте в палатку заползал Зульфикар и стаскивал с меня сапоги. Я понимал, что ему тяжело и неудобно это делать. Он пыхтел и даже ругался свистящим шёпотом. Но я совершенно не помогал ему, даже специально выворачивал ногу, чтобы ему было ещё труднее снимать обувь.
Утром я упорно ждал, когда слуга обует меня и польёт на руки воды. Дожился. Скоро я заставлю умывать себя. Я скупо усмехался и ждал, когда мне подадут полотенце. Раньше я всегда сам его брал и тщательно вытирался. Я не любил капли воды, оставшиеся в жидких волосах на подбородке. Они создавали ощущение чего-то нечистого, холодного и неприятного. Теперь мне было всё равно есть вода в волосах или нет. Безразличие медленно убивает меня.
Нет, я не потерял остатки того, что мы называем разумом, но я нахожусь в безучастно-холодном состоянии. Оно меня почему-то вполне устраивает, и я не хочу его нарушать, хотя неотвратимо умираю душой.
О, вот букашка доползла до носка моего сапога и решила своим скудным умишком взобраться по голенищу выше! Да ничего там нет для тебя интересного, лучше ползи туда, где зелень, трава, цветы и покой. Я могу нечаянно придавить тебя и погубить чью-то безгрешную душу. Говорят, что индусы завязывают рот тряпкой, чтобы не проглотить какую-то мошку и не стать пожирателем божественной сути.
Глотать это насекомое я не стану. Наступила ранняя весна, этой крохе надо успеть оставить после себя потомство. Я осторожно поддел ногтем мизинца жука, подбросил на руке. Он взмахнул своими крохотными оранжевыми крылышками и улетел. А я сижу, смотрю, думаю… Возможно, потом всё это сменится кипучей деятельностью, но сейчас я, пожалуй, выпью кумыс.
Уже две недели я на свободе. Если кому сказать, что хан вырвался на волю, то любой человек тут же подумает, что враги государства захватили правителя в плен. Заточили в самое глубокое и сырое подземелье. Но он, ковыряя ногтями глину и вгрызаясь в монолитную стену жуткой темницы зубами, сумел вырваться из каменного мешка и сбежать от своих мучителей. Это почти похоже на правду. В Арке*меня окружает множество людей. Всем от меня что-то нужно. Некоторые чиновники действительно приходят по делу. С такими людьми приятно поговорить и ещё приятнее помочь!
Но чаще всего сардар* хочет в очередной раз напомнить о себе. О том, что у него восемь сыновей от трёх жён и двух наложниц. Не мешало бы каждому из них подарить если не вилоят*, то хотя бы икту*. За заслуги их прадедушки, оказанные моему предку в давно забытые времена. От изобилия знакомых, полузнакомых и просто благополучно забытых лиц у меня начинает болеть голова. Перед уставшими глазами мелькают цветные круги. Но никуда от людей не денешься, и даже если я собираюсь уехать на время из Бухары по делам, то в дороге меня непременно сопровождают те же беки. Изрядно докучают пустые разговоры и непременные просьбы сардаров. Из кабинета я могу просителя удалить, а куда его деть в дороге?
Что самое красноречивое у просителя? Глаза. Глаза умоляющие, ждущие, просящие, взывающие к сочувствию! Они следят за малейшим изменением моего лица, готовые тут же подать необходимый сигнал языку: работай, настаивай, умоляй, хнычь и плачь! И язык начинает свою ноющую, требовательную песню. Он такой же неутомимый, как и зеркало души, так же заклинает, но уже не подспудно, а явно. Голос просителя вибрирует, возвышается до трели соловья или опускается до бурливого потока горного водопада.
Всё это делается для того, чтобы я отыскал для его бездельника-сына подходящее имение. Этот лежебока даже одеться сам не может, а я должен отыскать богатое безнадзорное, никому не принадлежащее имение поближе к Бухаре. Если отбросить суть дела любого просителя, а обращать внимание на одни глаза и голос, то я давным-давно остался бы не только без ханства и Бухары, но без халата, и даже без исподнего! Про Арк и драгоценности я молчу, они первые ушли бы просителям в их бездонные сундуки.
Не пойму до сих пор, хотя часто об этом говорю, и ещё чаще думаю – почему многие мои братья и племянники с неистребимой страстью и верой в свои скудные силы и возможности рвутся занять ханский престол? На трон, на тяжелейшую долю в мире? Воюют, губят жизни своих приближённых, детей и внуков, жён, наложниц и просто хороших людей, окружающих их в этом мире. Неужели только возможность жрать в три горла и упиваться запрещенным вином, день-деньской валяться на мягком, так привлекает желающих занять ханский трон? Почему они не думают о том, что трон, или то место, которое мы называем троном это череда неприятных обязанностей. Их никто, кроме хана выполнить не может?
О проекте
О подписке