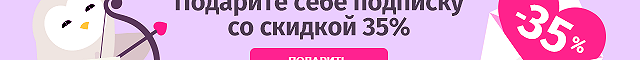
10. Завершение современности[10]
Завершение современности есть одновременно завершение метафизической – опирающейся на невысказанную и высказанную метафизику – историю Запада. Точнее: завершение метафизики определяет и несет с собой начало завершения современности.
Завершение означает здесь не ограниченное никакими рамками, а потому не запутанное, простое и бесхитростное вступление в силу разворачивающейся сущности эпохи. Завершение поэтому не есть чисто только приращивание-дополнение какого-то отрезка, который еще отсутствовал, а потому и не окончание чего-то такого, что в основе своей уже известно. Завершение, скорее, привносит последнее и наивысшее Отчуждающее в эпоху, которая не прекращается с его привнесением, но начинается господство сущности. Завершение метафизической эпохи поднимает бытие в смысле махинативности к такому «господству», что в нем происходит забвение бытия, и, тем не менее, суще-бытующее такой сущности практикуется как Единственное, доводясь до безусловно надежного пред-ставления и по-ставления промышленностью. Такое возводимое – обустраиваемое пред-ставление и по-ставление промышленностью решает – определяет, что допустить в качестве суще-бытующего, а что отвергнуть – как не-суще-бытующее. Все делающая и все улаживающая возможность-стать-сделанным суще-бытующего – это махинативность, которая пред-определяет и сущность ее действенности, и придает действительности ее единственный смысл. Действенно-эффективное не рассчитывается – высчитывается, как таковое, с ориентацией на ближнюю перспективу «целей» некоего суще-бытующего, но существует только в виде разворачивания в действии самой махинативности (бытия). Махинативность в то же время правит как незнаемое в своей сущности, а также непознаваемая для любой метафизики причина интерпретации действительного как «воли к силе». Суть ее состоит в необходимом, а потому и неустранимом пересиливании всякой силы, каковое пересиливание пред-полагает принадлежащей к ее сущности делаемость махинативности – пред-полагает наперед, а не только, скажем, как следствие. Планирования, высчитывания, сооружения-обустройства, сурового дисциплинирования требует таким образом пришедшее к господству суще-бытующее – и, тем самым, требует принятия-одобрения «становления» – не в намерении достичь прогресса в движении к какой-то цели и «идеалу», а ради становления самого по себе, как такового; ведь им движет пересиливание-обретение превосходства в силе, потому что только в нем и может продержаться и выдержать любая сила. Но, в сущности, сначала требуется «становление» посредством самой махинативности, потому что она проистекает из сущности бытия – как при-сущность-при-сутствие и постоянство. Бытие есть становление – и посредством этого бытие не отрицается – наоборот, его изначальной сущности φύσις-ίδέα-ούσία обеспечивается посредством суще-бытийности как махинативности предначертанное отсутствием обоснования истины исполнение сущности (ср. внизу S. 92f., 110f.). Кажущееся первенство «становления» по отношению к «бытию» – это только лишь самоуполномочивание возможности быть сделанным, только лишь наделение себя силой для обеспечения постоянства своей безусловной при-сущести.
Единственными разворачиваниями последней западной метафизики – метафизики Ницше – которые стремятся к завершению современности, и которые заслуживают внимания, выступают историческая метафизика цезаризма О. Шпенглера и метафизика «рабочего» Э. Юнгера. Первый думает о человеке как о «хищном звере» и видит его осуществляемое завершение – и конец – в господстве «цезаря», которому встали на службу массы, организованные экономикой, техникой и мировыми войнами; второй, мыслит в планетарном масштабе образ «рабочего» (не экономически, не социально, не «политически») – образ рабочего, в котором современное человечество становится составной частью «органической конструкции» суще-бытующего в целом. При этом, однако, ни тот, ни другой не могут быть накрепко связаны с наименованиями «цезарь» и «рабочий», которые указывают куда-то по направлению к великим отдельным индивидам, и делается попытка – и в том, и в другом случае – толковать их в смысле какого-то «прорыва» к сущности сверх-человека, то есть теперь уже твердо определившегося животного[11].
(Но такие формальные указания на действительно завершившиеся процессы мышления постоянно влекут за собой сокращение и сдвигание в сторону. Они хотят только продемонстрировать, сказать, что здесь только ведется борьба за позиции и точки зрения, каковая борьба разворачивает свою способность раскрывать-разоблачать что-то лишь только в непубличном споре с нею. Шпенглер и Юнгер – хотя они и происходили от одного и того же метафизического корня – мыслили в основе своей различно. Тот способ, каким они публично «действовали» и были отвергнуты, то есть использовались и были обезврежены, несущественен – он есть следствие запоздалой исторической (historischen) психологии. Чистый пессимизм заката у Шпенглера и чистый динамизм у Юнгера – это, и в том, и в другом случае, только лишь передние планы, фасады – из разряда бездумно навешиваемых ярлыков, в которых нуждается публичность.)
И на том, и на другом пути разворачивания метафизики Ницше, сущебытующее в целом мыслится махинативно, а человек как распространитель махинативности до предела определяется, исходя из существенной впутанности-вплетенности в нее. Человек поэтому – как расчлененная масса и как отдельный член в такой расчлененности – постоянно оказывается одновременно и мощным носителем силы, и безразличным существом, и, тем более, руководящим началом вплавленным в единое. Поэтому последнее слово, которое произнесет тот, в ком перекрещиваются суще-бытующее в целом и бытие-человеком – это слово «судьба». Мышление мира, вызванное наивысшей волей к силе хищного зверя и безусловностью вооружения – это, во всяком случае, раз-признак завершения метафизической эпохи. Мировые войны, равно как и мир во всем мире (в двояком христианско-иудейском смысле) означают соответствующие махинативные затеи, которые в эту эпоху уже не могут быть больше средством для достижения какого-то замысла и цели – но не могут и сами быть замыслами и целями, а сами есть то, в чем должны найти завершение действительное и суще-бытующее, мощь и знак отличия состоит в покинутости бытием (ср. VII Пра-бытие и человек; ср. 63 Техника).
Апелляция к судьбе подразумевает капитуляцию покинутости бытия суще-бытующего перед нею и в то же время есть пустая победа сделавшегося лишенным выбора героизма человека как «субъекта». Ссылка на судьбу – это лишь оборотная сторона исторического (historischen) понимания [слоистой] истории (Geschichte) – его расхожего «разъяснения» из суще-бытующего в тот или иной момент и из причин и целей, которые были бы желательны в суще-бытующем.
Принятие судьбы, «Да», сказанное ей, – это выход в безвыходность метафизики, которая исчерпала себя во всех ее возможных вариантах и оборотах и, тем самым, совсем запуталась в самой себе. Там, где ссылка на какого-нибудь суще-бытующего «Бога» (иудео-христианского и на его сообразные разуму варианты вроде «провидения» и тому подобного) не допускается по причине желания быть честным; там, где в то же время утратило свое очарование и притягательность отступление к «человеку» и его «творческому» великолепию-всевластию; там, где, какой-то выход видится в том, чтобы заниматься ведением этого «мира» в его покоряемости – и все же это не достигается в то же время, без помощи «человека» и его «страстного желания пережить-разжиться» и без помощи «бога» с его «утешениями» – тут бог, мир, человек – это разделенное натрое суще-бытующие как целое – блуждают потерянно как сферы, куда спасается бегством метафизика, безосновно в не имеющей основы истине пра-бытия – метания-прыжки человека между угрозой и обеспечением надежности-безопасности или даже полным безразличием.
11. Искусство в эпоху завершения современности[12]
Искусство в эту эпоху доводит до завершения свою доныне существовавшую метафизическую сущность. Признаком этого является исчезновение художественного творения, хотя и не искусства вообще. Оно становится способом завершения махинативности, который выражается в простраивании суще-бытующего в безусловно надежную располагаемость сооруженного. Сотворенное – совсем иначе, чем раньше – полностью отступает в «суще-бытующее» – в «природу» и публичный «мир»; и отступает не как в составную часть, а как в сущностную форму проявления своей махинативности: шоссе для автомобилей, залов, аэропортов, огромные трамплины, электростанции и водохранилища, фабричные здания и укрепляющие сооружения. «Природа» изменяется сообразно этим «сооружениям», полностью превращается в них и предстает, удерживаясь только в их облике. Она становится «прекрасной» только через посредство этих сооружений и благодаря им, и только таким образом. Красота и сейчас еще остается – сообразно полностью исполненному в совершенстве метафизическому характеру искусства – основным предназначением и предопределением. Прекрасно то, что нравится и должно нравиться определяемой силой сущности хищного зверя человека; но за основным определением и назначением уже скрывается ее преходящая (изменчивая) сущность, поскольку в исчезновении художественного творения, ради чистой махинативности осуществляется закрепление полной покинутости суще-бытующего бытием. Поэтому, отпадает всякая возможность искать здесь, вдобавок, какой-то «смысл» этого искусства, который мог бы еще стоять «за» или «над» его «творениями». Искусство снова становится – но не просто в отступлении назад, а в обретении своей завершенности – чистым techne – в образе, конечно, современной техники и истории. Оно есть некое сооружение безусловной представленности-исполненности махинативности суще-бытующего – в образе ее включенности-пригнанности в махинативность, т. е. в виде сделанного им одолжения.
Существовавшие до сих пор виды искусств, приходят в упадок и продолжают существовать чисто номинально или как побочные, недействительные сферы занятий явившихся слишком поздно «романтиков», которые не имеют будущего – например, как изготовление «стихотворений» и «драм», соответствующих им музыкальных произведений, «картин» и скульптур. То, что создает искусство – это не такие «произведения» и даже вовсе не произведения в том смысле, который связан с историей бытия – произведения, который открывали бы просвет пра-бытия – такой, в котором бытие только и могло бы впервые стать основой суще-бытующего; преподносимые произведения есть «структуры-конструкции» (формы сооружения суще-бытующего); «поэтические произведения» есть «оповещения-извещения» – воззвания в смысле вызывания уже суще-бытующего с вовлечением его в «Публичное», задающее меру всему и гарантирующее-обеспеивающее все. Слово, звук, образ – это средства для расчленения и движения, для осуществления встряски масс и сплочения их, короче говоря, для их создания и организации; мы не вправе сравнивать «кинематографический образ» и «кинотеатр» со знакомыми нам из истории «художественными творениями» и подходить к ним с теми же мерками, которыми мерили их; у них есть закон своей собственной размерности в обретающей метафизическую завершенность сущности «искусства», как сооружение – налаживание вседелающей и всеисчерпывающей-улаживающей делаемости суще-бытующего. «Игра светом в кинотеатре» есть публичная презентация – «новых» – «общественных форм поведения», мод, жестов, «переживаний», «подлинных» переживаний. Китчевыми являются не сами фильмы, а то, что они преподносят и распространяют как достойное переживания – вследствие махинативности переживаний. С махинативно-необходимым исчезновением художественных творений, которые имели прежнюю сущность, китч, проистекавший из подражания им, утрачивает свой статус альтернативы и становится самостоятельным – а, как таковой, он уже больше не распознаваем. «Китч» – это не «плохое» искусство, а наивысшее искусство-умелость, но искусство-умелость делать пустое и чудовищное – чтобы позднее гарантировать себе значимость, когда публичная пропаганда призовет себе на подмогу его символический характер.
Но было бы не только неподобающе проводить исторические сравнения с материалом, который сам был обретен снова исторически – вообще не подобает всякая «привязка» к «ценностям» перешедшего по наследству исторического. Это может быть значимым только как учебный материал и как материал для побуждения к созданию «совершенного» искусства – в смысле лишенного возможности выбора, необязывающего ни к чему «историзма». То, что в «художественных конструктах» сегодня вновь обнаруживается Все Предшествующее, имеет свою причину не в недостатке собственного стиля, а в том, что подлинный стиль махинативной эпохи состоит именно в этом более никак не ограниченном перенимании всего, что годится для обустройства публичной жизни масс, в которой – как и в любом ином сообществе – наличествуют также свои собственные «индивидуальности и личности». Отсюда и возрастающее количество «благ», создаваемых «художественными занятиями», которое соответствует проистекающему из приоритета техники надежно обеспеченному ритму формирования всех затей и сооружений. Историзм не есть уже – как его предшествующая форма в XIX веке – теряющая себя форма бессвязного и безудержного перепробования каких угодно возможностей опредмеченной истории; нет, он предварительно плотно включен в Махинативное всего суще-бытующего и благодаря этому только и обретает собственное уже связанно-обязательное завершение и законченность. «Музей» – это теперь уже не есть больше место, где накапливается прошлое, а выставка, на которой представляется запланрированное – к нему призывают, ему учат и, тем самым, обязывают. Это – в широком смысле понимаемое сооружение-конструирование «Земли» – не просто планируется и осуществляется в отдельных частях и отдельными шагами, в различных местах, а заранее – сообразно сущности планирования – планируется, исходя из целого, и это запланированное заранее преподносится заранее – и в то же время в доступном изложении. Преподнесение силы и представление силы – в виде чисел на марше, выставления их в ряд, в длину, высоту и ширину. Выставление на выставку означает, что показываемое, в сущности, уже надежно закреплено.
Акты преподнесения искусства сплошь и рядом имеют характер «потенциально заложенного в зачатке», характер заранее настроенного на планируемый, делаемый выход за пределы уже устроенного суще-бытующего, которое следует покорить и преодолеть – и это уже устроенное, в свою очередь, никогда не быть представлено как таковое, как ранее приуготовленное – оно должно «органически» включаться в «ландшафт», «органически» вписываться в общественные потребности и мероприятия; при этом то, куда привносятся дополнения, уже видится сообразно их махинативной сущности[13], т. е. ландшафт уже заранее рассматривается «технически» – так, что «техническая» структура вполне сообразна ему и вписывается в него.
(Приложение: земли и долины, горы и воды видятся не «технически» – не так, будто ландшафт – а что еще ему остается? – предстоит быть использованным с пользой технически. Суще-бытующее уже вовсе не
О проекте
О подписке