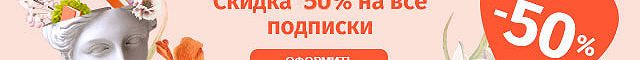
Это письмо, к которому я приступил…
Это письмо, к которому я приступил, чтобы уведомить тебя о ходе моей болезни, понемногу превратилось в средство отдохновения для человека, которому уже не хватает сил непрерывно заниматься государственными делами, в доверенные письменам размышления больного, который как бы дает аудиенцию своим воспоминаниям. Теперь я пойду еще дальше: я хочу рассказать тебе мою жизнь. Да, конечно, в прошлом году я составил официальный отчет обо всех моих деяниях, и мой секретарь Флегонт заверил его своей подписью. Я старался как можно менее лгать в этом отчете. Но общественные интересы и требования приличия все же вынудили меня по-иному представить некоторые факты. Истина, которую я собираюсь поведать теперь, не содержит в себе ничего непристойного; она непристойна лишь постольку, поскольку людей коробит всякая высказанная вслух правда. Я не жду, что ты в свои семнадцать лет что-нибудь в ней поймешь. Однако я рассчитываю просветить тебя, а также вызвать у тебя возмущение. Наставники, которых я сам для тебя выбрал, дали тебе то суровое, строгое, может быть, даже чересчур келейное воспитание, которое, я надеюсь, в конечном счете обернется великим благом для тебя и для государства. Я предлагаю тебе в качестве дополнения к моему официальному отчету рассказ, лишенный предвзятости и отвлеченного морализирования и основанный на личном опыте человека, каким являюсь я сам. Я не знаю, к каким выводам этот рассказ меня приведет. Я рассчитываю, что это исследование фактов поможет мне точнее определить самого себя, может быть, вынести себе приговор и, во всяком случае, прежде чем я умру, лучше себя понять.
Как и у всех людей, в моем распоряжении только три средства для оценки человеческого существования: изучение самого себя, самый трудный и самый опасный, но в то же время самый плодотворный из всех методов; наблюдение над людьми – а им чаще всего удается скрывать от нас свои тайны или заставить нас верить, что у них эти тайны есть; и, наконец, книги, с теми смещениями перспективы, которые непременно возникают между строк. Я прочитал почти все, что написали наши историки, наши поэты и даже наши баснописцы, хотя у последних репутация писателей фривольных, и книгам обязан я сведениями, быть может, более обширными, чем те, которые я извлек из достаточно разнообразных ситуаций своей собственной жизни. Написанное письмо научило меня слушать человеческий голос, так же как великая неподвижность статуй оценивать значение жестов. А жизнь, напротив, многое прояснила для меня в книгах.
Но эти писатели, даже самые искренние, лгут. Менее умелые из них, не находя слов и фраз, которыми было бы можно выразить жизнь, создают лишь бледное и жалкое подобие жизни; такие, как Лукан[21], утяжеляют и усложняют жизнь, наделяя ее торжественностью, которой в ней нет; другие, напротив, подобно Петронию[22], облегчают ее, делают из нее что-то вроде пустого скачущего мяча, который легко бросать и ловить в лишенном тяжести мире. Поэты переносят нас в мир более обширный или прекрасный, более яркий или мягкий, чем наш, совершенно на наш не похожий и практически почти необитаемый. Философы, дабы изучить действительность в чистоте и первозданности, заставляют ее претерпевать почти те же превращения, какие огонь или молот производят с твердыми телами; никакое существо, никакой факт не могут в этом пепле и в этих осколках сохраниться такими, какими мы их знаем. Историки, трактуя прошлое, предлагают нам его в виде систем слишком законченных, выстраивают цепочки причин и следствий, слишком точных или слишком понятных, чтобы они могли быть до конца истинными; они по своему усмотрению перекраивают этот покорный мертвый материал, и я твердо знаю, что даже от Плутарха всегда будет ускользать подлинный Александр. Сказочники, сочинители историй на милетский лад[23] лишь раскладывают на прилавке, как мясники, куски мяса, облепленные мухами. Мне очень трудно было бы жить в мире, лишенном книг, но реальной жизни в них нет, потому что она предстает в них не вся целиком.
Непосредственное наблюдение над людьми – метод еще менее совершенный, чаще всего ограничивающийся суждениями низкими или пошлыми, какими обычно питается людское недоброжелательство. Ранг, положение, занимаемое в обществе, превратности судьбы – все это сокращает поле зрения наблюдателя человеческих нравов; у моего раба совершенно другие возможности для того, чтобы изучать меня, нежели те, какими располагаю я, чтобы изучать его; но они у него так же малы, как и мои. Старый Эвфорион вот уже двадцать лет подает мне склянку с маслом и губку для растирания, но мое знание о нем не выходит за пределы его службы, а его обо мне – за пределы моей ванной, и любая попытка узнать еще что-либо привела бы и императора, и раба лишь к нескромности. Почти все, что мы знаем о других, поступает к нам из вторых рук. Если человек исповедуется перед вами, он старается представить себя в положительном свете; его защитительная речь уже готова заранее. Если же мы наблюдаем его, он уже не один. Меня упрекали, что я люблю читать донесения римской стражи; я постоянно обнаруживаю в них поразительные вещи; люди открытые или внушающие подозрение, незнакомые или близкие – все они в равной мере удивляют меня, их безрассудства служат для меня оправданием моих безрассудств. Я не перестаю изумляться тому, как разительно отличается одетый человек от нагого. Но все эти с такой наивной обстоятельностью составленные донесения, увеличивая груды моих досье, ни на йоту не облегчают мне вынесения окончательного приговора. Тот факт, что судья, на вид такой суровый и неподкупный, совершил преступление, отнюдь не помогает мне лучше его узнать. Отныне передо мной вместо одного факта – два: то впечатление, какое производит на меня судья, и совершенное им преступление.
Что касается наблюдения над самим собой, я заставляю себя это делать хотя бы для того, чтобы состоять в добрых отношениях с человеком, рядом с которым я вынужден жить до конца своих дней; но и столь близкое шестидесятилетнее знакомство таит в себе немало возможностей ошибиться. Когда я заглядываю в глубины своей души, мое знание о самом себе зыбко, неуловимо, расплывчато, скрытно и похоже на сообщничество. Если же я пытаюсь взглянуть на себя незаинтересованным взглядом, это знание оказывается столь же холодным, как теории чисел; мне приходится напрягать все силы ума, чтобы увидеть свою жизнь с наибольшего удаления, с наибольшей высоты, и тогда она предстает предо мной точно жизнь какого-то другого человека. Но оба эти способа познания трудны и требуют один погружения в себя, другой – выхода наружу. Повинуясь инерции, я, как и все, стараюсь заменить их более привычными средствами – таким представлением о своей жизни, которое слегка подправлено оглядкой на образ, сложившийся обо мне у людей, заменить суждениями, изготовленными заранее, но изготовленными плохо, суждениями, подобными манекену, к которому неумелый портной усердно прилаживает предназначенную для нас ткань. Снаряжение несовершенное; инструменты тупые; но других у меня нет – и с их помощью я кое-как формирую идею своей человеческой судьбы.
Когда я рассматриваю свою жизнь, меня ужасает ее неопределенность. Жизнь героев, такая, как нам рассказывают о ней, всегда проста; она устремлена прямо к цели, точно стрела. Большинство людей тоже любит сводить свою жизнь к какой-нибудь формуле, иногда к похвальбе или жалобе, но почти всегда к обвинению и упреку; память услужливо подсовывает им образ существования, легко объяснимый и четкий. Контуры моей жизни менее отчетливы. Как это часто бывает, с большей точностью ее можно определить, если говорить о том, чем я не был: хороший солдат, но отнюдь не великий полководец; любитель искусства, но отнюдь не тот артист, каким, умирая, мнил себя Нерон[24]; человек, способный на преступление, но отнюдь преступлениями не отягченный. Временами я думаю, что великие люди вернее всего характеризуются так: героизм, проявленный ими в чрезвычайной ситуации, остается в них на всю жизнь. Они – наша полная противоположность, наши антиподы. Я поочередно оказывался в различных чрезвычайных ситуациях, но не мог удержаться на их высоте; жизнь всегда сталкивала меня вниз. Однако и похвастаться тем, что, как добродетельный землепашец или носильщик, я всегда держался золотой середины, я тоже не могу.
Мне кажется, что ландшафт моих дней, подобно горному ландшафту, складывается из самых разных пород, в беспорядке нагроможденных одна на другую. Характер мой тоже представляется мне неоднородным: в нем перемешаны в равной мере инстинкт и культура. Там и сям на поверхность выходят гранитные глыбы неизбежного; куда ни кинь взгляд, везде обвалы случайного. Я снова и снова пытаюсь пройтись вдоль своей жизни, найти в ней какой-то план, проследить от самых истоков золотую или свинцовую жилу, обнаружить, где берет свое начало подземная река, но весь этот обманчивый план – просто иллюзия памяти. Время от времени в какой-нибудь встрече, или в предзнаменовании, или в четкой последовательности событий мне видится перст судьбы, но слишком много дорог никуда не ведет, слишком многое не поддается подсчетам. Во всем этом многообразии, во всей этой сумятице я ощущаю, конечно, присутствие какой-то личности, но облик ее почти всегда искажен давлением обстоятельств; ее черты всегда затуманены, как лицо, отраженное в воде. Я не из тех, кто говорит, что его поступки непохожи на него самого. Они непременно должны быть на меня похожи, потому что они – единственная мера, какой меня можно измерить, единственный способ, каким я могу запечатлеть себя в памяти людей и даже в своей собственной памяти, потому что невозможность и дальше выражать себя в поступках и через них изменяться самому – это, пожалуй, и есть то основное, чем смерть отличается от жизни. Но между мной и моими поступками, которые создали меня, существует необъяснимый разрыв. О нем свидетельствует тот факт, что я испытываю постоянную потребность взвесить их, объяснить, отчитаться в них перед самим собой. Теми из моих трудов, которые длились недолго, можно, разумеется, пренебречь, но ведь и дела, занимавшие меня на протяжении всей жизни, тоже немногого стоят. Вот и сейчас, например, когда я пишу эти строки, мне вовсе не кажется таким уж важным то, что я был императором.
Впрочем, три четверти моей жизни не поддаются проверке делами, множество моих намерений, желаний, даже проектов расплывчаты и туманны, как призраки. Но и все остальное, даже более осязаемая часть жизни, в той или иной мере подтвержденная фактами, вряд ли выглядит намного отчетливей, и последовательность событий здесь так же неопределенна, как в снах. У меня есть своя личная, собственная хронология, и она совершенно не согласуется с той, где отсчет времени ведется от основания Рима или по Олимпиадам. Пятнадцать лет, проведенных мной в армии, промелькнули быстрее, чем одно утро в Афинах; есть люди, с которыми я встречался всю жизнь и которых я не узнаю в аду. Пространственные измерения тоже смещаются: Египет соседствует с Темпейской долиной[25], я не всегда пребываю в Тибуре, когда я в нем нахожусь. То вдруг жизнь моя представляется мне такой банальной, что она выглядит недостойной не только описания, но даже просто внимательного рассмотрения, и для меня она тогда не более интересна, чем жизнь первого встречного. А то она кажется мне единственной в своем роде и в силу этого обесцененной и бесполезной, потому что ее невозможно свести к опыту большинства людей. Ничто не может объяснить моей сути: моих пороков и добродетелей для этого явно недостаточно; мое счастье пригодно здесь несколько больше, но счастье выпадало мне в жизни нечасто, с большими перерывами, и не всегда для этого были достойные поводы. Однако человеческому уму претит быть игрушкой случая, мимолетным плодом стечения обстоятельств, неподвластных не только ни одному божеству, но и самому человеку. Определенная часть каждой, даже не стоящей внимания жизни проходит в поисках смысла существования, отправных точек, корней. И мое бессилие их обнаружить склоняет меня к магическим объяснениям, к попыткам отыскать в божественных откровениях то, что не в силах мне дать здравый смысл. Когда все сложнейшие вычисления и выкладки оказываются обманчивыми, когда даже философы больше не могут нам ничего предложить, тогда позволительно обратиться к толкованию щебета птиц или далекого хода светил.
О проекте
О подписке