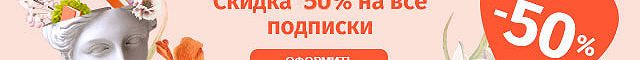
Глава вторая
Проснулся я от того, что по комнате прохаживалась крупная белая собака. Точнее, меня разбудил звук ее когтей, разъезжавшихся по паркету, как щеточки неактуального джазмена. Собаки у меня вообще-то не было.
Меж тем она медленно, как страус у Бунюэля, подошла к телевизору и уже было принюхалась к видеокассетам, как я тихо закричал из своего угла. Орден мужества нам обоим определенно не грозил – собака в ужасе вылетела в коридор, а я на кухню, благо больше некуда. Дверь оказалась нараспашку, очевидно, вчера я забыл ее закрыть, когда выбрасывал лопатку «Туристическая».
Сквозняк с какой-то стати пропах имбирем и лавром, пришлось пресечь незваную симфонию запахов двумя тугими щелчками замка.
Холодильник раскрылся с куда более звучным, почти гитарным скрипом – в тон упорхнувшему собачьему джазу. В дешевых квартирах всегда много лишних звуков – не комнаты, а наушники. Амфора в моем мини-морге выглядела как последняя матрешка, лишившаяся всех покровов, безжизненная бессмертная кукла. Вместо спасительного пива в отсеке находились горошек, масло и жухлый нектарин.
Я снимал квартиру что-то около семи лет. За это время она успела превратиться в гибрид склепа и сквота – фамильная строгость запустения при общей размотанности быта.
Пятна комариной крови на потолке были моими фресками, поскольку и кровь была как-никак моя – они ее пили, а я потом их на этом потолке убивал, кидаясь книгами.
Планки рассохшегося паркета вылетали из-под ног, как домино. Стиральной машины не водилось, как, впрочем, и посудомоечной, как, впрочем, и собственно автомобильной машины, – поэтому я стирал, точнее мыл, одежду в ванне. Окна зимой облепляло такой стужей, что я спал в одежде, а иной раз и в обуви, как на гауптвахте.
Как выражался Оруэлл, жилось не гигиенично, но уютно.
Заводить домработницу представлялось мне занятием унижающим и унизительным одновременно. Возможно, я был стихийным социалистом, точнее малограмотным пионером.
В конце концов, если жизнь не пошла дальше кастинга, то и интерьеры должны оставаться в статусе реквизита.
Мои родители умерли, детей не было, сам я к 33 годам повзрослел ровно настолько, чтобы подчеркивать в книжках понравившиеся строчки не карандашом, как в детстве, а уже чернилами. На этом, пожалуй, все – прочий возрастной баланс застыл на отметке «и да, и нет». Я в основном специализировался на одолжениях самому себе – так что жаловаться было грех, а хвастаться нечем. Много проблем, однако никаких забот.
За окнами тоже царила блаженная беспозвоночность – то были, как говорил д'Артаньян, времена меньшей свободы, но большей независимости. Сам год был объявлен в России годом снегиря.
Последняя подруга – та, что с прямой спиной – ушла от меня две недели как.
Я не слишком ее задерживал, поскольку все еще питал слабость к предыдущей, тоже ушедшей, но с куда большими возражениями с моей стороны. Основательную страсть за одну смену не вылечить, это работает минимум через одну.
Я служил тогда в разных газетах и журналах культурным рецензентом и, если шире, литературным работником.
С последней службы меня не то чтобы прямо выгнали, однако ж и не слишком задерживали. Во всяком случае, на классический светский вопрос для неудачников «ты сейчас где?» мне было нечего ответить. В те весенние дни меня держала на плаву именная колонка в одном крипто-патриотическом альманахе, позволявшем себе разные неосознанные формы вольности.
Я стоял на кухне, выбирая пластинку, так и не решил какую, в итоге ограничился тем, что провел пальцами по ребрам дисков – нравилось это кирпичное молчание музыки, под такую архитектуру можно было и станцевать. У винила подобных строительных свойств не обнаруживалось, он скорее отдавал чем-то фарцовым, вроде икон, я предпочитал карманные зеркальца компактов.
Итак, что взято с собой – школьная тетрадь в клетку, тяжеловатый, старого образца белый макбук (очень девичий гаджет, для тогдашних девушек они были сродни муфтам, собственно, он и остался у меня от подруги на неопределенный срок, и я решил, что он переживет выезд на природу), пара маек, старый серый свитер с плутовскими дырками для больших пальцев, склянка духов. Урну я закутал в свитер и аккуратно, как ископаемую бомбу, уложил в сумку.
На улице оказалось так свежо и цветуще после вчерашнего ливня, что я едва не передумал – зачем куда-то ехать, когда есть просторный туннель Часовой улицы с его алгоритмом по решению самых насущных задач, ведущий прямиком в сферы внутреннего согласия. Одной из таких сфер была квартира в соседнем доме, где проживал Дуда – последний мистик-краснобай черной московской богемы, на закате лет занимавшийся исключительно возлияниями и воздыханиями. Однако визит к нему имел все шансы затянуться на сутки, а сегодня делать этого было нельзя.
Теперь была не осень, но я хорошо знал, что специальными осенними сухопутными днями здесь сам собой образовывался вылитый и записной Бруклин, и светофоры на маленьких перекрестках сияли через желто-красную листву.
Вот и сейчас все завертелось как за океаном – и люди как листья, и уверенный пульс центровой окраины, и складное умение отшутиться, и праздношатание вместо свободы, и тот непреложный факт, что Бруклин для нас, тогдашних молодых и местных, стал моральным символом, вроде Бобруйска для детей лейтенанта Шмидта или Бродвея для поколения стиляг. Тот Бруклин был еще совсем ранний, безбородый, без засилья крафтовых моделей пива и велодорожек, которые позже сформируют в наших краях подобие молодежного Брайтон-Бича.
Без приключений миновав дом Дуды, я следовал по адресу – прямиком к магазину под названием «Элитный алкоголь – 24 часа в сутки».
В магазине уже неделю как служила новенькая молодая продавщица.
У нее были накладные гарпиеобразные ногти изумрудной расцветки и татуировка на итальянском языке, уходящая вглубь по стройной руке, как наваха под мышку. Я всю неделю хотел спросить, что это значит.
– Как что? – удивилась торговка. – Любовь побеждает смерть.
У нее было открытое круглое лицо. Она выдала мне пять бутылок «Леффе» и две обжигающе ледяные банки «Саппоро». Мне нравилось слово «Саппоро», потому что о нем пела Йоко Оно, а песни Йоко Оно мне нравились больше, чем песни ее мужа, по крайней мере в тот год.
Островные жестянки стоили примерно как компакт-диски японского же производства.
Не в моем нынешнем положении было их приобретать, однако меня слишком радовали странная желтая звезда на банке, и бонусный объем в 650 мл, и сама форма кубка – не слишком ли часто стали даваться в руки ритуальные предметы?
Первого цеппелина я вскрыл прямо у дверей – с сухим морозным звуком, напоминавшим выброшенный в корзину файл. «Саппоро» – неплохое, хотя и слегка маньеристское пиво, но по ритму сегодняшнего утра в самый раз. Ну а «Леффе» есть «Леффе» – маститый бух, в котором проживала иная, как сказал бы Гете, повторная возмужалость. Но перед ним не помешало бы поесть.
С легкой руки того же Дуды я знал одно место через дорогу, в преддверии Ленинградского рынка, куда вела секретная дверь в неприметной стене.
За дверью подавали престранный плов на бакинский, что ли, манер – отдельно приносили рис, отдельно мясо с морковью, отдельно специи, отчего и сам ты чувствовал себя очень на отдалении. В рамках повторной возмужалости я наелся их конструкторского плова, оставив взамен на столе две пустые бутылки, одной из которых придавил купюру – дверь то и дело распахивалась, и в комнату врывался веселый ветер.
Дальнейший путь лежал через крытый рынок. Мне, уже заглотившему наживку алкоголя, захотелось посмотреть на раскисающие соленья, свиные бюсты и барханы куркумы. «Нас осыпает золото улыбок у станции метро "Аэропорт"», – заметила когда-то Ахмадулина. Едва ли она имела в виду такое, но я приписывал эти образы золотозубым рыночным торговцам и их радостным закупочным кличам.
Я двигался к метро по столбовой улице Черняховского в сторону памятника Тельману, мимо дежурного торгового центра, мимо еще одного высыхающего пруда, где зимой перетаптывались стайки залетных уток, мимо аптеки, где на витрине был вывешен голый девичий торс с упругим статным задом – засветная реклама какого-то молодильного крема.
Метро прошло без приключений, и только на кольцевом переходе «Курской» я встретил слепую девушку. Она стояла в зловонном мочегонном углу с протянутой рукой. Ее веки были как будто склеены и запечатаны. Слепая держалась как изваяние святой в церковной нише, чуть покачиваясь, и еле слышно пела о красивой трудяжке, которую по причине бедности никто не берет замуж. Песня была мне хорошо знакома. Я самолично записал ее с голоса одной деревенской старухи летом 92 года в фольклорной экспедиции в костромских лесах – эта девушка выпевала другие слова, но песня была точно та самая.
Я протянул незрячей сто рублей, которые она никогда не увидит, и побежал на вокзал.
Курская электричка подкатилась бесшумно и наполнялась людьми так, словно на ускоренной съемке показывали расфуфыривание цветка или гниение лебедя. Я зашел в вагон позже всех, потыкав носком в облупившийся асфальтовый край платформы – у них всегда такие облезлые края.
У электрички свой грязный запах, он выносим как собственный, и его ни с чем не спутаешь. Например, плацкартное зловоние поездов дальнего следования отличается в худшую сторону. Электричка же – мимолетная домашняя история, не зря ее называли собакой, на ней далеко не убежишь. Поезд пахнет людьми, а электричка – собой, это нельзя было ни выветрить, ни прокурить. Но я бы, пожалуй, сделал мужской парфюм с запахом тамбура советской электрички – мне нравились тамбуры с детства, с их помойной конфиденциальностью, что-то чужое и волнующее было в них, нечто такое, что никогда не станет твоим и понятным – я, собственно говоря, так и не закурил.
Кроме того, электричка казалась живой игрушкой – выныривала из подмосковного леса как китайский дракон, причем у тех, что поновее, было совсем злое красное лицо.
Девица напротив везла в сумке большого породистого (собственно, это его толщина мне казалась породой) кота – зверь высовывался из сумки молча и недоуменно. Сосед справа нацепил наушники, оттуда донеслись отголоски русского рэпа, скучного как устный счет. За окном тоже царил какой-то безраздельный офсетный хип-хоп; жизнь, данная нам исключительно в перечислительных интонациях, средоточие жлобства и жалоб, бубнеж, зафиксированный опытом: домики-кубики, подсобки, странные курганы из досок и щебня, отчего-то затянутые оградительной красно-белой лентой.
Электричка катилась плавно и сладко, будто под откос, а я со своим распахнувшимся пивом еще уселся против движения, так что мне, как ветхозаветному Элиезеру, земля скакала навстречу.
Она была по-своему прекрасна, эта электричка. Люди входили обреченными, но уже через станцию-другую становились блаженными – не они ехали, а их куда-то везли, именно везли, не подвозили, и не сойти уже абы где, на дальней станции. Вид у всех был такой, словно в свое время их забыли спросить о чем-то важном и теперь они ждут, что, может быть, на них снова обратят внимание. Все словно мчались на конгресс по вопросам помилования. Через несколько минут по вагону пошли одни за другим торговцы подручной и поразительно разнообразной ерундой – тамбовские пятновыводители за сто рублей, приспособления для удаления сердцевины болгарского перца («А если лечо? Если лечо?» – провоцировал публику продавец), губки для стирания маркеров, мизинчиковые батарейки, мочалки, пемза, клей.
При подъезде к Реутову в окне мелькнула неплохая торговая вывеска «Все для сна». Там же на заборе было намалевано присловие «шлюхе – шлюшье».
Пока я любовался граффити, электричку тряхнуло, и я пролил на себя японскую банку «Саппоро». Ничего отвратительнее пролитого на руки пива не бывает. Это как порезаться листом бумаги формата А4 – цепкая бесцельная боль.
Я пошел в туалет смыть сусло с рук, но он, как выяснилось, начинал работать только по достижении составом отметки «Фрязево». До нее оставалось еще сколько-то станций. Пока я вдыхал любимый тамбурный аромат, из соседнего вагона, лязгая дверью, привалили долгорукие бесперспективные подростки.
Один из них сунул ногу в дверь и поехал дальше с защемленной лодыжкой – похоже, ему становилось все лучше, в этом было что-то почти эротическое, вроде аутоасфиксии.
Я отвернулся, задумавшись о своем дошкольном возрасте, когда разнообразный трейнспоттинг отнимал у реальности массу пустого времени и наполнял его передвижным смыслом. Летом снималась дача, там шум и запах окрестных электричек казался таким же полновесным природным явлением, как гроза или муравейник, а железнодорожная промышленность была одной из форм небесного промысла. Во внедачные же времена в квартире можно было прямо с утра разложить слегка обжигающий током рельсовый хворост – это напоминало своеобразное заклинание пространства. Дорога была совсем как настоящая, точнее сказать – она была подлинной. В самом деле, составы на нашем Казанском направлении выглядели какими-то неотесанными бревнами по сравнению с моими желтыми цистернами, хрупкими платформами, болотного цвета вагонами-ресторанами и тяжелым ультрамариновым электропоездом. Тогда я, видимо, впервые и поверил в то, что правильно выстроенная модель реальности теоретически может (а то и должна) быть лучше реальности. Не лучше даже, а наравне. Играя с вагонами, я постигал не меньше, нежели когда ехал в них.
Когда я подрос и прочел у Платонова да Гастева о том, как надлежит влюбляться в паровозы, то подумал о мельчайших совпадениях внутри одной условно коммунистической мысли. Платоновская вагонная антропотехника призвана была преобразовать мир до состояния коммунизма – а я любил строить свою железнодорожную микроутопию на игрушечном материале из страны соцлагеря. Ни в том ни в другом случае ничего не вышло.
За окном совсем поредело. Тревожные тамбурные парни с защемленными скакательными суставами высвободились и исчезли, а поезд мягко остановился на заросшем травой полустанке. Я благополучно пропустил нужную остановку и оказался в точке, где кончаются рельсы – ровно как и в детской железной дороге производства PIKO Modellbahn.
Предпоследнее пиво нагрелось до состояния черной патоки. На горлышке образовался пузырь и держался так долго, что я стал чувствовать себя баварским стеклодувом под гипнозом.
Несколько человек в вагоне, похоже, испытывали нечто схожее. Они остались на местах, как подсадные утки, изображающие интерес к внутренней сути происходящего, или как просто утки, не желающие лететь дальше, вроде тех, что жались зимой к земле у метро «Аэропорт».
В полуоткрытое окно проникла маленькая, как росчерк пера, стрекоза, немного выведя меня из стеклянного оцепенения.
О проекте
О подписке