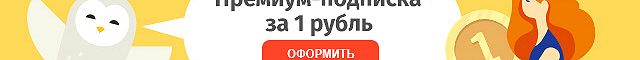
В кабинете задержалась только медсестра, отвечавшая на вопросы; она подошла к Револю и протянула ему руку: Корделия Аул; я новенькая, была в приёмном покое. Револь кивнул: о’кей, осваивайтесь; если бы он посмотрел на неё повнимательнее, то заметил бы, что выглядит она как-то странно: глаза – чёрные ямы; отметины на шее, так похожие на засосы; слишком красный, словно кровоточащий, рот; припухшие губы; колтуны в волосах; синяки на коленях; приглядись он повнимательнее – возможно, задался бы вопросом: откуда взялась эта блуждающая улыбка? улыбка Джоконды, не сходившая с лица, даже когда молодая женщина склонялась к пациенту, чтобы позаботиться о нём, промыть глаза и рот, установить интубационный зонд, проверить жизненные показатели, дать лекарство; возможно, в итоге он догадался бы, что этой ночью она встречалась с любовником, что тот позвонил после недельного молчания, сволочь эдакая, и что она помчалась на свидание, даже не перекусив, – вся такая разнаряженная и расфуфыренная, тёмные тени на веках, блестящие волосы, пылающая грудь, твёрдо решив ограничиться дружеской встречей, но, увы, посредственная актриса, безучастно пробормотала: как дела? рада видеть тебя снова, – а тело уже предало её, выдало волнение, внутренний жар; тогда они выпили по пиву, потом по второй, потом попытались завязать беседу ни о чём, и когда она вышла покурить, повторяла: сейчас мне надо уйти, просто необходимо уйти, это несусветная глупость, но друг присоединился к ней, я не буду задерживаться, не хочу сегодня ложиться поздно, ложь, притворство; он достал зажигалку, чтобы дать ей прикурить; она укрыла пламя ладонями, наклонила голову, и непослушные пряди скользнули на лицо, угрожая вспыхнуть, как факел; он машинально провёл по ним рукой, заправил за ухо, и, когда подушечки его пальцев коснулись её виска, коснулись машинально, она ослабела, ноги подломились в коленях, всё это старо как мир и протёрто до дыр, и – бац! – через несколько секунд парочка бросилась в соседнюю подворотню, приветствовавшую их темнотой и запахом скверного вина; шарахнулась к мусорному баку, сияя полосками бледной, белой кожи, оголённое бедро, выглянувшее из джинсов или колготок; голые животы; задранные рубашки; расстёгнутый пояс; ягодицы, одновременно ледяные и пылающие; яростные желания, устремившиеся друг к другу; да, если бы Револь взглянул повнимательнее, он понял бы, что Корделия Аул – весьма боевая девица и что, даже заступив на дежурство после бессонной ночи с любовником, она пребывает не в худшей, а то и в лучшей форме, чем он сам, и что он может положиться на неё во всём.
* * *
Мы везём к вам пострадавшего. Звонок раздался в 10:12. Нейтральные слова, необходимая информация рухнули в трубку. Мужчина, метр девяносто три, семьдесят килограммов, приблизительно двадцать лет, дорожное происшествие, черепно-мозговая травма, кома; мы знаем, кто он такой, тот, кого мы вам только что описали; мы знаем его имя: Симон Лимбр. Как только стихли короткие гудки отбоя, машина скорой помощи уже остановилась у реанимации, распахнулись огнеупорные двери, скользит каталка; она катит по центральной оси отделения, и все отскакивают в стороны, видя её. Появился Револь, он только что осмотрел пациентку с судорогами, доставленную ночью, его прогноз самый пессимистичный; женщине не сделали вовремя сердечный массаж: сканирование выявило, что после остановки сердца умерли клетки печени, а также были затронуты клетки мозга, его срочно вызвали в приёмный покой, и, глядя на каталку, появившуюся в конце коридора, медик внезапно подумал, что это воскресное дежурство будет тяжёлым.
За каталкой следовал врач скорой. Он отличался телосложением землемера из высокогорья, лысый, спокойный; совершенно спокойный, просто каменный; пятидесятилетний мужчина продемонстрировал заострённые зубы, сообщив громким голосом: Глазго-три! Затем он дал Револю подробнейший отчёт: неврологическое исследование показало полное отсутствие спонтанной реакции на звук и на свет; кроме того, имеются расстройства зрения (асимметричные движения глаз) и вегетативные дыхательные расстройства; мы сделали прямую интубацию. Он прикрыл глаза и стал полировать лысину: подозрение на кровоизлияние в мозг как следствие черепно-мозговой травмы, терминальная кома. Глазго-три – он использовал известный обоим язык, позволявший сэкономить время и слова; язык, исключавший красноречие и чарующую прелесть словосочетаний, исключавший местоимения, – сплошные шифры и акронимы; язык, в котором говорить означало «описывать»: то есть описать тело, суммировать все необходимые параметры, чтобы поставить диагноз, назначить требуемые исследования, – и всё для того, чтобы позаботиться о больном и спасти его: сила краткости. Револь записал всю информацию и назначил компьютерное сканирование[24].
Именно Корделия Аул сопровождала молодого человека в палату, помогла переложить его на кровать, после чего врачи скорой смогли покинуть отделение, прихватив с собой свой инвентарь: каталку, переносной респиратор, баллон с кислородом. Теперь надо было поставить артериальный катетер, закрепить на груди электроды, ввести мочеотводящий зонд и запустить датчик всех жизненных показателей Симона; на мониторе появились линии различных цветов и форм: они наползали друг на друга, змеились, – линии прямые и прерывистые, параллельные отростки, плавные волны, – «азбука Морзе» медицины. Корделия работала рядом с Револем; уверенные жесты, плавные движения, – кажется, её тело уже освободилось от оков вязкой тоски, владевшей им ещё вчера.
Часом позже явилась смерть; смерть заявила о себе во весь голос – подвижное пятно в неровном ореоле; более расплывчатая, светлая форма: вот она, смерть, собственной персоной. Такая простая картинка, а словно удар дубины, но Револь даже не моргнул; он сконцентрировался на томограмме, выведенной на монитор: лабиринтообразное изображение с легендой, как у географической карты; Револь крутил это изображение и так и эдак, менял фокус, ставил метки, измерял расстояния, а совсем рядом, всегда можно коснуться рукой, на его письменном столе, лежала картонная папка с названием госпиталя, где были те же изображения, на сей раз в бумажном виде, так сказать, «документы, относящиеся к делу», предоставленные отделением рентгенологии, которое провело сканирование мозга Симона Лимбра: чтобы получить эти послойные изображения, голову парня просветили направленным пучком рентгена и с помощью томографии получили «срезы» толщиной в миллиметр; теперь их можно было изучить во всех пространственных проекциях: коронарной, аксиальной, сагиттальной и наклонной. Револь умел читать эти изображения: он читал их, как открытую книгу с затейливым сюжетом; он распознавал формы, пятна, сияния, толковал молочные ореолы, расшифровывал чёрные мазки, без труда ориентировался в легенде и в шифрах; он сравнивал, проверял, перепроверял, начинал всё сначала, доводил исследование до конца – но, что поделать, всё было перед ним, всё как на ладони: мозг Симона Лимбра находился на пути к разрушению – он утопал в крови.
Диффузные повреждения, ранний церебральный отёк – и ничего; ничего, что позволило бы стабилизировать слишком высокое внутричерепное давление. Револь откинулся на спинку кресла. Его взгляд рассеянно блуждал по поверхности стола, а рука потирала подбородок и челюсть; взгляд скользил по всему этому беспорядку, не задерживаясь ни на чём конкретно, неразборчивые пометки, административные циркуляры, фотокопия статьи из «Espace ethique» / AP-HP[25] о манипуляциях над «остановившимся сердцем»; взгляд витал поверх всех этих предметов, громоздящихся на столешнице, в том числе над нефритовой черепашкой, которую ему подарила юная пациентка, страдавшая от тяжелейшей астмы, и внезапно остановился на сиреневых склонах горы Эгуаль, закутавшейся в накидку из пенящихся потоков; несомненно, Револь вдруг припомнил короткий кадр: вспышка, тот сентябрьский день, когда он «познал» эхинокактус Уильямса в своём доме в Вальроге, – Марсель и Салли прибыли ближе к вечеру в изумрудном седане, на колёсах застыли куски сухой грязи; машина натужно затормозила во дворе загородного дома, и Салли помахала ему рукой из окна: ау, это мы; её белоснежные волосы развевались, позволяя рассмотреть деревянные серьги, две спелые вишни, алые, блестящие; поздне́е, уже после ужина, когда, пролив с неба звёздный дождь, на плато упала ночь, они вышли в сад и Марсель надорвал хрустящую целлюлозную упаковку: в руке у него появилось несколько крошечных шариков – серо-зелёные кактусы без колючек, – и трое друзей принялись катать эти шарики на ладонях, перед тем как вдохнуть горьковатый аромат; эти плоды прибыли издалека – Марсель и Салли ездили за ними в горную пустыню на севере Мексики и вывозили их оттуда тайно, нарушая закон и, со всеми мыслимыми предосторожностями, доставляя в Севенны, а Пьер, давно изучавший свойства галлюциногенных растений, с нетерпением ждал, когда же можно будет провести запланированный эксперимент: эхинокактус Уильямса содержал мощнейший коктейль алкалоидов, который на треть состоял из мескалина, вызывающего неконтролируемые виде́ния; виде́ния, возникающие из ниоткуда, не связанные с воспоминаниями; именно эти виде́ния играли важнейшую роль в шаманских ритуалах индейцев, употреблявших этот кактус, чтобы прорицать будущее, заглядывать за грань неведомого; но Пьера больше всего интересовала синестезия – аномалия чувствительности, возникавшая во время подобных галлюцинаций: предполагалось, что в первой фазе после проглатывания растения у человека в разы обострялась способность к психосенсорному восприятию мира, – и Пьер надеялся увидеть вкусы, увидеть запахи и звуки, увидеть тактильные ощущения, мечтая, что расшифровка виде́ний поможет ему понять, проникнуть в тайну боли. Револь вспоминал ту сверкающую ночь, когда небосвод прохудился прямо над горами и из его чрева посыпались звёзды; прорвался, являя взорам бескрайние пространства; тогда они, все трое, растянулись на траве – и вдруг Револь внезапно представил себе расширяющиеся миры; миры постоянного становления; пространства, в которых клеточная смерть была творцом метаморфоз, а смерть порождала жизнь, как тишина порождает шум, темнота – свет или статика – движение; молниеносное виде́ние, возникшее на сетчатке в ту секунду, когда его глаза снова впились в монитор, когда всё его внимание сосредоточилось на прямоугольнике сорок сантиметров в длину, излучающем чёрный свет, который означал прекращение всякой мозговой деятельности у Симона Лимбра. Он никак не мог соотнести лицо молодого человека с ликом смерти – и почувствовал, как у него перехватило горло. А ведь он работал в этой области уже почти тридцать лет.
Пьер Револь родился в 1959-м. Разгар холодной войны, триумф кубинской революции, первое голосование швейцарок в кантоне Во, съёмки фильма «На последнем дыхании», появление романа «Обед нагишом» и мистического опуса Майлса Дейвиса «Kind of Blue»[26]: самый великий джазовый альбом всех времён и народов, – утверждал Револь, лукаво улыбаясь, словно эта музыка была как-то связана с рождением будущего врача. Что-то ещё? Да, говорил он самым равнодушным тоном, словно хотел заинтриговать слушателей, подготовить их к откровению: так и представляешь себе Револя, избегающего смотреть в глаза собеседнику, занятого какими-то своими делами, роющегося в карманах, набирающего номер телефона, читающего пришедшее сообщение, да: в тот год дали новое определение смерти. И в ту секунду Револь наслаждался, наблюдая, как на лицах у окружающих появляется странное выражение: смесь оцепенения и страха. Затем он добавлял, вскидывая голову и рассеянно улыбаясь: оно известно любому анестезиологу-реаниматологу – и оно очень значимо.
Револь часто думал о том, что в далёком 1959 году, когда он был безмятежным младенцем с тройным подбородком, очаровательные ползунки с пуговками, мирно посапывавшим отпрыском провинциального сенатора, а спал он бо́льшую часть суток в плетёной колыбели, декорированной прелестной клетчатой тканью; он хотел бы находиться в зале, на Двадцать третьем Международном неврологическом конгрессе: в тот день Морис Гулон и Пьер Молларе вышли на трибуну доложить о результатах проведённой работы; Револь многое отдал бы, чтобы увидеть, как перед медицинским сообществом, а в сущности, перед всем миром в целом, предстали эти двое, невропатолог и инфекционист, одному около сорока, другому около шестидесяти; тёмные костюмы и чёрные глянцевые ботинки, скорее всего галстуки-бабочки; как он мечтал понаблюдать за тем, из чего складывались их отношения: взаимоуважение, которому не мешала разница в возрасте; своего рода молчаливая иерархия, сопровождающая все научные конференции, мой уважаемый коллега! мой дорогой коллега! но всё же: кто? кто выступил первым? кому выпала честь подвести итоги? и чем больше Револь об этом думал, тем чаще он повторял себе, что хотел бы видеть их; сидеть там, в зале, среди пионеров реанимации, в большинстве своём мужчин, сконцентрированных и одновременно таких возбуждённых; быть «своим» среди этих замечательных людей, в этом замечательном месте – в головном госпитале имени Клода Бернара: именно здесь в 1954 году Молларе впервые создал современную службу реанимации; он собрал команду, переоборудовал павильон имени Пастера, чтобы поставить в нём около семидесяти коек; «выбил» знаменитые «Энгстрём-150» – аппараты для искусственной вентиляции лёгких, которые использовались для борьбы с эпидемией полиомиелита, свирепствовавшей тогда на севере Европы, и которые заменили «стальные лёгкие», служившие врачам ещё с тридцатых годов, – чем дольше Револь размышлял о событиях давно минувших дней, тем отчётливее представлял себе ту необыкновенную, можно даже сказать, эпохальную сцену, при которой он, увы, никогда уже не сможет присутствовать; он слышал голоса обоих профессоров, обменивающихся короткими негромкими фразами: вот они наводят порядок на кафедре, раскладывают листы доклада, прочищают горло, стоя у микрофонов, бесстрастных металлических микрофонов, ждущих, пока стихнет шум в зале и воцарится тишина, и тогда учёные заговорят, начнут доклад с холодной отстранённостью, свойственной лишь людям, уверенным в себе, уверенным в том, что они сделали поистине фундаментальное открытие и теперь пришли рассказать о нём коллегам; рассказать, воздерживаясь от лишних слов, довольствуясь только примерами и описаниями; и вот они описывают, описывают, выкладывают на стол доводы, как опытный игрок в покер в решающем раунде выкладывает перед противниками каре тузов; и, как обычно, вся грандиозность их открытия ошеломляла Револя, ошеломляла, как бомба, взорвавшаяся прямо у него на глазах. А ведь это и была бомба, ибо Гулон и Молларе заявили потрясённой публике: прекращение сердцебиения больше не свидетельствует о наступлении смерти: отныне пациента можно считать мёртвым, лишь когда прекратилась деятельность его мозга. Иначе говоря: если я больше не мыслю – следовательно, я не существую. С символической точки зрения, сердце было низложено, а мозг – коронован: «государственный переворот»; «революция».
Гулон и Молларе предстали перед научной ассамблеей и перечислили признаки, совокупность которых они назвали «закоматозным состоянием», или «терминальной комой»; они подробно описали состояние многочисленных пациентов, у которых сердечная и дыхательная функции поддерживались чисто механически, но мозговая деятельность прекратилась, – пациентов, которые без современной аппаратуры и новейшей реанимационной методики питания мозга точно стали бы жертвами сердечной смерти; оба профессора установили, что эволюция реанимации изменила расклад сил в медицине; оба заявили, что последние достижения науки вынуждают их дать новое определение самому понятию смерть, в связи с чем они взяли на себя труд донести до общественности следующее, жест немыслимой смелости – ведь он затрагивал и философию, и теологию: новое определение смерти позволяет изымать органы у одного человека и пересаживать их другому.
За выступлением Гулона и Молларе на конгрессе последовала публикация в «Неврологическом журнале»; так появилась фундаментальная статья, описывающая двадцать три случая терминальной комы: тут самое время припомнить книги, выстроившиеся на полках в кабинете у Револя, в частности номер журнала за 1959 год, и догадаться, что речь идёт именно о том номере, где была опубликована статья о коме; Револь разыскал этот документ на иБэй-дот-ком и, не торгуясь, согласился выложить за него приличную сумму; заветный экземпляр периодического издания врач заполучил в ноябре на станции «Лозер – Политехнический институт», линия «B» поездов RER[27]: он долго мёрз на холодной платформе, ожидая продавца, оказавшегося крошечной пожилой дамой в шляпке-тюрбане цвета топаза; семеня, она подошла к Револю, взяла у него наличные, открыла огромную хозяйственную сумку в шотландскую клетку… и попыталась сбежать, надеясь надуть покупателя и не отдать журнал.
Револь снова уставился на монитор, ещё раз убедился в правоте своего диагноза, закрыл, затем снова открыл глаза и, словно что-то внезапно решив, поднялся; часы показывали 11:40, когда мужчина позвонил в приёмное отделение; трубку взяла Корделия Аул; Револь спросил, знает ли о случившемся семья Симона Лимбра, и молодая женщина ответила: да, жандармерия связалась с его матерью – сейчас она, наверное, уже в дороге.
* * *
О проекте
О подписке
