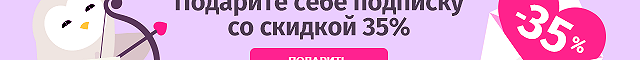
4
Медея выросла в доме, где обед варили в котлах, мариновали баклажаны в бочках, а на крышах пудами сушили фрукты, отдававшие свои сладкие запахи соленому морскому ветерку. Между делами рождались новые братья и сестры и наполняли дом. К середине сезона теперешнее Медеино жилье, такое одинокое и молчаливое зимами, обилием детей и общим многолюдством напоминало дом ее детства. В огромных баках, поставленных на железные треноги, постоянно кипятилось белье, на кухне всегда кто-то пил кофе или вино, приезжали гости из Коктебеля или из Судака. Иногда вольная молодежь – небритые студенты и непричесанные девочки ставили неподалеку палатку, шумели новой музыкой и удивляли новыми песнями. И Медея, замкнутая и бездетная, хоть и привыкла к этой летней толчее, все-таки недоумевала, почему ее прожаренный солнцем и продутый морскими ветрами дом притягивает все это разноплеменное множество – из Литвы, из Грузии, из Сибири и Средней Азии.
Сезон начинался. Вчерашний вечер она провела вдвоем с Георгием, сегодня за ранним ужином сидели ввосьмером.
Младших детей, уставших с дороги, уложили пораньше. Ушел и Артем, чтобы избежать унизительного приказа: «Спать отправляйся!» И добровольность его ухода каким-то образом уравнивала его с Катей, которую спать давно уже не гнали.
Первый ужин незаметно перешел во второй. Пили вино, закупленное Георгием. Георгий прожил в Москве пять лет, пока учился на геофаке, Москву не полюбил, но новостями столичными всегда интересовался и теперь пытался их выудить из родственниц. Но Никин рассказ все сбивался либо на нее самое, либо на семейные сплетни, а Машин – на политику. Впрочем, время было такое: с чего бы ни начинался разговор, кончался с понижением голоса и повышением накала страстей политикой.
Речь шла, собственно, о Гвидасе-громиле, вильнюсском племяннике Медеи, о сыне покойного брата Димитрия. Он построил дом, развел большое строительство.
– А что же власти, разрешают? – заинтересовался Георгий, встрепенувшись всей душой на этом месте.
– Во-первых, там все-таки повольней. К тому же он архитектор. И не забывай, тесть у него большая партийная сволочь.
– А Гвидас что, играет в эти игры? – удивился Георгий.
– Ну как тебе сказать… В общем-то, у них советская власть несколько маскарадная, что ли. Для литовцев все же колбаска копченая, угорь, пивко всегда поважнее партсобрания, это уж точно. Особенного людоедства нет, – объясняла Ника. Маша вспыхнула:
– Чушь говоришь, Ника. После войны пол-Литвы посадили, чуть не полмиллиона молодых мужиков. Да они в войну меньше потеряли. Хорош маскарад!
Медея встала. Ей давно хотелось спать. Она понимала, что пропустила свое обычное время, когда засыпает легко и плавно, и теперь будет до утра ворочаться на своем матрасе, набитом морской травой камкой.
– Спокойной ночи. – И вышла.
– Ну вот, видите, – огорченно сказала Маша, – уж на что наша Медея великий человек, кремень, а все равно запуганная. Слова не сказала и ушла.
Георгий рассердился:
– Ну и дура ты, Маша! У вас все мировое зло – советская власть. А у нее одного брата убили красные, другого – белые, в войну одного – фашисты, другого – коммунисты. Для нее все власти равны. Дед мой Степанян, аристократ и монархист, денег послал осиротевшей девчонке, послал все, что в доме тогда было. А отец женился на матери… пламенный, извините, революционер… женился по одному Медеиному слову – Леночку надо спасать… Что для нее власть? Она верующий человек, другая над ней власть. И не говори никогда, что она чего-то боится…
– Ах, господи! – закричала Маша. – Да я же совсем не об этом! Я только про то, что она ушла, как только разговор о политике зашел.
– Да чего ей с тобой, с дурой, разговаривать? – хмыкнул Георгий.
– Перестань, – ленивым голосом перебила Ника. – Заначка есть?
– А как же! – обрадовался Георгий, пошарил у себя за спиной и вытащил дневную початую бутылку.
Маша уже дрожала губами, чтобы рвануться в бой, но Ника, ненавидевшая распри, подвинула к Маше стакан и запела:
– «Течет речка да по песочку, бережок моет, молодой парень, удалой жульман, начальничка молит…»
Голос ее был поначалу тихим и влажным. Георгий и Маша размякли, родственно прислонились друг к другу, все прения прекратились сами собой. Голос, как свет, выливался в щель приоткрытой двери, в маленькие неправильные окна, и немудреная полублатная песня освещала всю Медеину усадьбу…
Валерий Бутонов, вышедший среди ночи в уборную, справил свою нужду, не доходя до дощатого домика, в обескураженную неожиданной теплой поливкой помидорную рассаду, загляделся в южное глубоко-звездное небо, все в блудливых лучах прожекторов, щупающих прибрежную полосу в поисках кинематографических шпионов в черных водолазных костюмах. Но в это время года отсутствовали даже сверкающие под луной ягодицы пляжных любовников. Земля же была сплошь темная, единственное окно светило в распадке холмов чистым желтым светом, и даже как будто оттуда шло женское пение. Валерий прислушался. Редко побрехивали собаки.
* * *
Ночь действительно была бессонной. Но Медея с молодости привыкла мало спать, а теперь, в старости, одна бессонная ночь не выбивала ее из колеи. Она лежала на своей узкой девичьей кровати, в ночной рубашке со стершейся вышивкой на груди, а вдоль ее тела отдыхала слабо заплетенная ночная коса, обнищавшая с годами, но кончающаяся у бедра.
Вскоре дом наполнился маленькими узнаваемыми звуками: прошлепала босыми ногами Ника, Маша звякнула крышкой ночного горшка, прошелестела спящему ребенку «пис-пис», явственно и музыкально пролилась детская струя. Щелкнул выключатель, раздался приглушенный смех.
Ни слух, ни зрение еще не изменяли Медее. Благодаря также и природной наблюдательности она многое замечала в жизни своих молодых родственников такого, о чем они и не подозревали.
Молодые женщины с малолетними детьми приезжали обычно в начале сезона, их работающие мужья проводили здесь недолгое время, недели две, редко месяц. Приезжали какие-то друзья, снимали койки в Нижнем Поселке, а по ночам приходили тайно в дом, стонали и вскрикивали за Медеиной стеной. Потом женщины расходились с одними мужьями, выходили за других. Новые мужья воспитывали старых детей, рожали новых, сводные дети ходили друг к другу в гости, а потом бывшие мужья приезжали сюда с новыми женами и новыми детьми, чтобы вместе со старшими провести отпуск.
Ника, выйдя замуж за Катиного отца, молодого многообещающего режиссера, который так и не произвел ничего, достойного собственной репутации, годами возила с собой топорного и нескладного мальчика Мишу, режиссерского сына от первого брака. Катя его всячески притесняла, а Ника ласкала и заботилась, а когда бросила режиссера, променяв его на физика, долго еще продолжала таскать мальчика за собой. На глазах Медеи произошел взаимообмен двух супружеских пар, горячий роман между своячениками с возрастной разницей в тридцать лет и несколько юношеских связей, вполне оправдавших все ту же французскую пословицу.
Жизнь послевоенного поколения, особенно тех, кому было теперь по двадцать, казалась ей несколько игрушечной. Ни в браках, ни в материнстве не чувствовали они той ответственности, которая с раннего возраста определила ее жизнь. Она никогда не выносила суждений, но чрезвычайно ценила тех, кто, как ее мать, бабка, подруга Елена, совершали и незначительные, и самые важные поступки тем единственным способом, который был возможен для Медеи, – серьезно и окончательно.
Медея прожила свою жизнь женой одного мужа и продолжала жить вдовой. Вдовство ее было прекрасно, ничем не хуже самого замужества. За долгие годы – почти тридцать лет, – прошедшие с его смерти, само прошлое видоизменилось, и единственная горькая обида, выпавшая ей от мужа – как ни удивительно, уже после его смерти, – растворилась, а облик его в конце концов приобрел значительность и монументальность, которой при жизни и в помине не было.
Вдовство длилось уже значительно дольше брака, а отношения с покойным мужем были по-прежнему прекрасными и даже с годами улучшались.
Ощущая это глухое время бессонницей, Медея тем не менее находилась в тонкой дреме, не прерывавшей ее привычных размышлений: полумолитв, полубесед, полувоспоминаний, иногда словно невзначай выходящих за пределы того, что она лично знала и видела.
Помня почти дословно все рассказы мужа о его детстве, она вспоминала его теперь мальчиком, хотя познакомилась с ним, когда ему было уже под сорок.
Был Самуил сыном вдовы, которая свои обиды и несчастья берегла превыше всякого имущества. С неизъяснимой гордостью она указывала своим сестрам на тщедушного сына:
– Вы посмотрите, он такой худой, он совершенно как цыпленок, на всей нашей улице нет такого худого ребенка! А какие болячки! Он же весь сплошь в золотухе! А цыпки на руках!
Самоня рос себе и рос, вместе с цыпками, прыщами и нарывами, был действительно и худ, и бледен, но мало чем отличался от своих сверстников. На тринадцатом году он стал испытывать некоторое специальное беспокойство, связанное с тем, что штаны его топорщились, приподнимаемые изнутри быстро отрастающим побегом, доставляя ему болезненное неудобство. Новое состояние мальчик рассматривал как одну из многочисленных своих болезней, о которых с такой гордостью говорила его мать, и он приспособил шнурок от материнской нижней юбки, которым и прищемливал строптивый орган, чтоб не мешался. Тем временем еще две заметнейшие части тела – уши и нос – двинулись в неукротимый рост. Из миловидного ребенка вылуплялось нечто несуразное, с круглыми, слегка нависающими бровями и длинным подвижным носом. Его худоба приобрела к этому времени новое качество: куда бы он ни садился, ему казалось, что он сел на два острых камня. Серые полосатые брюки покойного отца висели на нем как на огородном пугале, – тогда-то он и получил обидную кличку «Самоня – пустые штаны».
На четырнадцатом году, вскоре после празднования Бар-Мицва, которое для Самони было отмечено лишь тем, что в чтении положенных текстов он сделал ошибок в пять раз больше, чем остальные пять мальчиков из бедных семей, также проходивших синагогальную науку на общественные деньги, после томительно-уклончивой переписки матери со старшим братом покойного отца был отправлен наконец в Одессу, где и начал трудовую деятельность в качестве конторского мальчика с кругом нескончаемых и неопределенных обязанностей.
Должность конторского мальчика почти не оставляла ему свободного времени, но он все же успел отведать устаревшего уже тогда еврейского просвещения из рук старшего из отцовских братьев, Эфраима. Тот был еврейским самодеятельным интеллигентом и, вопреки очевидности, надеялся, что хорошо поставленное образование может разрешить все больные вопросы мира, включая и такое недоразумение, как антисемитизм.
Самоня недолго простоял под благородными, но сильно выцветшими знаменами еврейского просвещения и переметнулся, к большому горю дяди, в смежный лагерь сионизма, который поставил крест на еврее, подтянувшем свое образование на уровень других цивилизованных народов, и, напротив, делал ставку на еврея натурального, принявшего простое и обоюдоострое решение снова сажать свой сад в Ханаане.
Двоюродный брат Самони уже успел уехать в Палестину, жил в никому не ведомом Эйн-Геди, работал сельскохозяйственным рабочим и манил Самуила редкими восторженными письмами.
К недовольству конторского дядюшки, Самоня поступил на еврейские сельскохозяйственные курсы для переселенцев. Эти занятия отнимали массу рабочего времени, дядя был недоволен, уменьшил Самоне вдвое ни разу не выданную зарплату, но жена дяди, тетя Геничка, была настоящая еврейская женщина и положила отдать за него свою немолодую племянницу с небольшим врожденным вывихом тазобедренного сустава.
Два месяца Самоня усердно посещал курсы, вникал в прививку и окулировку, но переменчивая его душа не выдержала, пока насиженные яйца намерений проклюнутся совершенными деяниями, и по мере вовлечения прочих слушателей в мир садоводства и виноградарства, он пересел на другую парту – это был тайный марксистский кружок, организованный для рабочих механических мастерских и портовых служб.
Волнующие идеи маленького еврейского социализма в провинциальной Палестине не могли конкурировать с великой всемирностью пролетариата.
Конторский дядя, интересующийся исключительно ценами на пшеницу, довольно равнодушно реагировал на все предшествующие увлечения племянника, но марксизма не стерпел и велел ему снять койку в другом месте. Справедливости ради надо сказать, что он как будто понял со слов Самони, что такое прибавочная стоимость, но проявил неожиданную враждебность к экономическому гению и раскричался:
– Ты думаешь, он лучше меня знает, что делать с прибавочной стоимостью? Пусть он сперва ее получит!
У Самони возникло подозрение, что дядя путает прибавочную стоимость с чистой прибылью, но Самоня не успел ему этого объяснить. Дядя пообещал ему, что в самое ближайшее время его посадят в тюрьму. Дядя оказался пророком, хотя прошло почти два года, прежде чем исполнились его слова. За это время Самоня выучился на слесаря, приобрел множество познаний с помощью разного рода книг и уже сам вел кружок для прояснения затемненного сознания народа.
В конце двенадцатого года его подвергли административной ссылке в Вологодскую губернию, где он провел два года, после чего ездил из города в город, развозя в докторском саквояже сырую самодельную литературу, встречаясь на явочных квартирах с неизвестными, но очень значительными лицами и занимаясь агитацией, агитацией… Всю жизнь он называл себя профессиональным революционером и революцию встретил в Москве, начальничал там на среднем уровне, поскольку был силен в работе с пролетарской массой, а потом был обряжен в чоновскую кожу и откомандирован в Тамбовскую губернию. На этом месте славная биография таинственным образом обрывается, зияет пробел, и далее он становится совершенно обыкновенным человеком, лишенным всякого высшего интереса к жизни, зубным протезистом, оживляющимся лишь при виде полнотелых дам.
Встреча Медеи, подсыхающей, незаметно потратившей золотое девичье время на повседневные заботы о младших братьях, Константине и Димитрии, и о сестре Александре, которую с первенцем Сергеем отправила не так давно в Москву к мужу, с вечно веселым дантистом, обнажающим в улыбке короткие крупные зубы вместе с полоской нежно-малиновой десны, произошла в санатории. Целебная крымская грязь, как предполагалось, побуждала к деторождению, чему и способствовала медсестра Медея Георгиевна, прикладывавшая грязевые компрессы к неплодным чреслам. Прежде дантиста в санатории не было, но главный врач выбил эту ставку через Наркомздрав, и дантист появился и развел в этом тихом и слегка таинственном месте несусветный базар. Он шумел, шутил, махал никелированными инструментами, ухаживал за всеми пациентками сразу, предлагал нештатные услуги по части деторождения, а Медея Георгиевна, лучшая медсестра в санатории, была прикреплена к нему как помощница в этих стоматологических гастролях. Она размешивала шпателем на предметном стекле состав для пломбирования, подавала ему инструменты и тихо удивлялась невиданному нахальству дантиста, а еще более – умонепостигаемому распутству большинства страдающих бесплодием женщин, назначавших дантисту свидания, не сходя с зубоврачебного кресла.
С возрастающим день ото дня интересом наблюдала она этого худого еврея в мешковатых штанах, оборчато прихваченных на тонкой талии кавказским ремешком, в старой синей рубашке. Надевая белый халат, он несколько облагораживался.
«Все-таки доктор, – объясняла Медея его явный успех у женщин. – И остроумный по-своему».
Пока Медея заполняла карточку, еще до того, как очередная пациентка доверчиво раскрывала рот, он успевал острым взглядом произвести доброжелательный и профессионально-мужской осмотр от макушки до лодыжки. Ничто не ускользало от взгляда знатока, и первый комплимент, как вывела Медея, касался исключительно верхнего этажа – волос, цвета лица, глаз. При благоприятной реакции – в этом смысле дантист проявлял большую чуткость – он отдавался целенаправленному красноречию.
Медея исподтишка наблюдала за доктором и дивилась, как оживлялся он при виде каждой входящей женщины и как скучнел лицом, оставаясь наедине с самим собой, то есть со строгой Медеей. Своему критическому разбору он подверг ее еще в первый день знакомства – похвалил ее чудесные медные волосы, но, не получив никакого поощрения, больше не возвращался к ее достоинствам.
Через некоторое время Медея с удивлением поняла, что у него действительно острый взгляд, что в единое мгновение он замечает самые неуловимые достоинства женщин и, пожалуй, искренне радуется открытиям этих достоинств тем более, чем менее они очевидны.
Одной невероятно толстой особе, несомненно страдающей ожирением, он сказал с восхищением, пока она втискивала мягкий зад в седалище зубоврачебного кресла:
– Если бы мы жили в Стамбуле, вы бы считались самой красивой женщиной в городе!
О проекте
О подписке