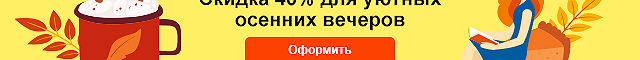
IV
Это пришел Антон Деркс, ее старший сын от второго брака; от первого брака у Пожилой Дамы была только дочь, Сефани де Ладерс, старая дева. Антон тоже остался холостяком; он успешно служил в Ост-Индии и вышел в отставку в должности резидента[4]. Сейчас, в семьдесят пять лет, он был человеком молчаливым, мрачным, ушедшим в себя из-за долгих лет одинокой жизни, постоянно погруженным в мысли о себе самом. Ему было свойственно – сначала от природы, затем осознанно – маскировать свои чувства, не открываться даже в том, что принесло бы ему славу и любовь в обществе; обладая недюжинным умом, человек высокообразованный, он взрастил свой интеллект лишь для самого себя и в реальной жизни так и не поднялся выше уровня среднего чиновника. Его мрачная душа нуждалась в мрачном наслаждении для самой себя, как раньше, так и теперь, подобно тому, как его большое тело нуждалось в темном сладострастии. Он вошел в пальто, которого не стал снимать, чтобы не замерзнуть, хотя сентябрь только начался и светило солнце, так что осень почти не ощущалась. Он навещал мать раз в неделю, по давней привычке, рожденной почтением и уважением. Все дети – теперь уже пожилые люди – приходили сюда регулярно, но в передней непременно справлялись у Анны, служанки с неизменной кошкой на коленях, нет ли кого-нибудь наверху, у maman. Если там уже был кто-нибудь из родственников, они не шли на второй этаж сразу, чтобы не утомлять матушку присутствием нескольких людей и множеством голосов. В таких случаях Анна принимала их в гостиной первого этажа, которую протапливала в зимнее время, и нередко угощала сливовой наливкой. Анна обязательно сообщала им, если только что пришел господин Такма, и тогда дети и внуки выжидали минут пятнадцать, прежде чем подняться на второй этаж, так как знали, что maman, или grand-maman, любит побыть наедине с Такмой, своим давним другом. Если же после появления Такмы уже успело пройти какое-то время, Анна прикидывала, можно ли пустить родственников наверх… В дневное время компаньонки обычно не было, за исключением тех случаев, когда госпожа просила позвать ее, оттого что из-за плохой погоды к ней никто не пришел.
Антон Деркс вошел в комнату, в нерешительности из-за Такмы, опасаясь, не помешает ли. Дети госпожи Деркс, хоть и сами в летах, по отношению к ней оставались детьми и по-прежнему видели ее, некогда строгую и вспыльчивую мать, сквозь призму ее материнского авторитета. Так воспринимал ее до сих пор и Антон, ее, постоянно сидящую в кресле, точно на королевском троне, – странно для человека, в ком осталось так мало жизни, висевшей на последней тонюсенькой ниточке; порвись ниточка и прекратится жизнь. У окна в полумгле, винно-красной из-за гардин и висевших на окнах кусков бархата от сквозняка, освещенных вечерним солнцем, мать сидела так, что казалось, будто она никогда уже не пошевелится до того самого мгновения, когда раскроются врата тьмы… Ибо дети никогда не видели, чтобы она двигалась, за исключением одного-единственного угловатого жеста, производимого некогда такими подвижными, но теперь подагрическими пальчиками… Антон Деркс знал: если в этот день врата не раскроются, то maman придет в движением вечером, около восьми, когда Анна с компаньонкой поведут ее в кровать. Но этого он никогда не видел; своими глазами он видел неподвижную безжизненную фигуру на кресле-троне, в розоватых сумерках. И его, человека в летах, эта картина поразила. Maman сидела так странно, почти нереально: она дожидалась, дожидалась чего-то… ее остекленелый взгляд был устремлен в никуда, порой казалось, что она чего-то боится… Этот одинокий человек развил в себе обостренную наблюдательность и комбинаторский дар, о которых никто никогда не догадывался. Он уже давным-давно стал замечать, что его мать постоянно о чем-то думает… постоянно о чем-то одном, всегда о том же самом… О чем же? Быть может, он ошибался, вкапывался слишком глубоко, и взгляд матери был лишь взглядом полуслепых глаз… Или она думала о том, что было скрыто в ее жизни, о том, что лежало в глубине ее жизни, как в темной, темной пучине? Прятала ли она какие-то тайны, подобные тем, что были у него, тайны его мрачного сладострастия? Любопытства он не испытывал: у всех есть свои тайны, и у maman тоже… Он не станет пытаться их выяснить… Говорили, что когда-то у нее была связь с Такмой, вот она теперь и думает о прошлом… или уже не думает, а только дожидается, глядя в окно… Как бы то ни было, он оставался тем же почтительным сыном.
– Хорошая погода для сентября, – сказал он, поздоровавшись.
Антон Деркс был человеком рослым и широкоплечим, у него было полное, смуглое лицо, изборожденное морщинами, с глубокими складками у выразительного носа и щек, седые с желтоватым оттенком усы, торчащие щеточкой над чувственным ртом с толстыми красными губами, между которыми виднелся нестройный ряд еще крепких зубов; даже сразу же после бритья его щеки имели синеватый оттенок от мелких точек пробивающейся густой растительности; на лбу с двумя глубокими морщинами был хорошо заметный шрам, над ним – негустая седеющая шевелюра, переходящая в лысый череп. Грубая кожа на крепкой шее сзади над воротничком образовывала складки, хоть и не слишком глубокие, как у старого рабочего. Руки, огромные и грубые, лежали двумя глыбами на массивных коленях; на толстом животе, на котором одна пуговица жилета не застегивалась, болталась цепочка от часов с множеством брелоков. Ноги в сапогах, отвороты которых изгибали линию брюк, крепко стояли на ковре. По внешнему облику было видно, что это уже немолодой, грубый, сластолюбивый человек, в нем не прочитывался ни интеллект, ни тем более воображение. То, что Антон Деркс – великий фантазер, оставалось тайной для всех, кто видел его только таким, как сейчас.
Бывший на много лет старше Антона Деркса Такма, благодушный и шумливый, чей старческий голос порой давал петуха, Такма, в короткополом пиджаке-вестоне, сверкающий вставными зубами, казался рядом с ним изящным, моложавым и подвижным; в Такме сквозила мягкость, добрая, благодушная понятливость, как будто он, глубокий старик, видел всю жизнь «молодого» Антона Деркса как на ладони. Но самого Антона это раздражало, ибо он видел, что что-то здесь не так. Благодушие Такмы что-то скрывало; да, Такма что-то скрывал, хотя делал это иначе, чем Антон Деркс. Такма что-то скрывал: придя в себя после резкого рывка головой, он испытывал страх, это было видно… Впрочем, любопытства Антон не испытывал… Но этот древний старик, бывший любовник его матери, матери, вызывавшей у сына благоговение, когда он смотрел на нее, сидящую с прямой спиной, в ожидании, в кресле у окна, – этот старик раздражал его, действовал ему на нервы, всегда был ему несимпатичен, всегда. Но Антон никогда не подавал виду, и Такма ни о чем не догадывался.
Так и сидели в узкой гостиной, лишь изредка обмениваясь несколькими словами, эти три старых человека; старая дама успокоилась, овладев собой, едва вошел ее сын, ее «ребенок», ибо всегда сохраняла невозмутимость, когда на нее был обращен взгляд его слегка навыкате глаз, серых, чуть желтоватых от разлитой по организму желчи. Она сидела с прямой спиной, точно на троне, в силу своего возраста и авторитета – царица, величественная и безупречная, но настолько слабая и хрупкая, что казалось, будто дыхание Смерти вот-вот развеет ее душу. В немногих сказанных ею словах слышалось удовлетворение от того, что ее пришел навестить сын, который, следуя сыновнему долгу, раз в неделю справлялся о ее здоровье. Она радовалась этому, и ей было нетрудно сохранять спокойствие, ощутив внезапное умиротворение от его прихода, несмотря на то что еще минуту назад, словно повинуясь какому-то внешнему воздействию, разговаривала о Том, что произошло давным-давно и что вновь проплыло перед ее взором. И когда опять зазвонил звонок, она сказала:
– Наверное, это дети…
Все трое смолкли, обратившись в слух; старик Такма отчетливо услышал, что в передней кто-то разговаривает с Анной.
– Они спрашивают, не будет ли слишком много народу, – сказал Такма.
– Антон, позови их, пожалуйста, сюда наверх, – сказала Пожилая Дама, и ее слова прозвучали материнской командой.
Антон Деркс подошел к двери крикнул вниз:
– Поднимайтесь, grand-maman ждет вас.
Лот и Элли вошли в комнату; в том, как они вошли, читалась робость, они как будто боялись нарушить атмосферу в комнате старой дамы своей чрезмерной молодостью. Но старая дама приветствовала их, протянув к ним обе руки, скрытые в черных просторных складках широких рукавов, и это движение, подагрически-угловатое, было окрашено в розовый цвет полумрака от портьер. Она сказала:
– Так вы собираетесь пожениться; это хорошо…
Руки в митенках поднялись к голове Лота и на миг охватили ее, пока бабушка дрожащими губами целовала внука в лоб, затем она поцеловала Элли, и девушка сказала, приветливо улыбнувшись:
– Grand-maman…
– Я рада видеть вас вместе. Maman уже сообщила мне, это великая новость… Будьте счастливы, дети, будьте счаст ливы…
Ее слова прозвучали торжественно, словно произнесенные венценосной особой, сидящей на троне в полумраке, но голос, надтреснутый от волнения, дрожал. Будьте счастливы, дети, сказала старая дама, и Антону Дерксу показалось, что в этот миг она думала о том, что счастливые браки в их роду – большая редкость… В ее словах он уловил эту заднюю мысль и в душе порадовался, что сам не женат; при взгляде на Лота и Элли он ощущал теперь тихое, сладкое удовлетворение. Они сидели в этой гостиной такие молодые, в начале нового этапа своей жизни, но Антон знал, что это лишь видимость: ведь Лоту уже тридцать восемь лет, а для Элли это вторая помолвка. И тем не менее сколько в них молодости и сколько у них впереди лет чистой новой жизни! Он ощутил ревность, и глаза его пожелтели еще больше при мысли о собственной жизни, которая уже никогда не будет новой и чистой. И глянув на Лота порочным взглядом мрачного сластолюбца, хранящего тайну собственной чувственности, он спросил себя, будет ли Лот настоящим мужем для Элли. Лот с его нежным телосложением был очень похож на свою мать: розовощекий блондин со светлыми усиками и скептической улыбкой на губах, скрупулезно следящий за тем, чтобы на идеально облегающем его костюме не было ни единой складки, а галстук-бабочка был элегантно завязан под двойным воротничком. И все же он очень неглупый юноша, размышлял Антон Деркс, его заметки об Италии, об искусстве Ренессанса были прекрасно написаны, и он, Антон, прочитал их с удовольствием, хоть и воздержался от комплиментов автору; и очень неплохи были его два романа, в одном действие происходило в Гааге, в другом – в Ост-Индии, причем тамошние нравы были подмечены очень точно. В этом мальчике богатое содержание, гораздо богаче, чем кажется с виду, потому что он выглядел ничем не примечательным молодым человеком, блондином с кукольным личиком, картинкой из модного журнала. Элли с ее бледноватым, но умным лицом не была красавицей, Антон Деркс считал, что ее нельзя назвать женщиной, созданной для любви, хотя, возможно, со временем это изменится. Он не мог себе представить, чтобы Лот и Элли, влюбленные друг в друга, много целовались, а ведь это – самое главное утешение в нашей тяжелой жизни, во всяком случае, так всегда было для него, Антона. При воспоминании о том, чего не вернешь, взгляд его желтоватых глаз подернулся дымкой, но он продолжал прислушиваться к разговору, тихому и неторопливому, чтобы не утомить grand-maman на какой день у Лота и Элли назначена свадьба, когда они отправятся в путешествие.
– Мы поженимся через три месяца: нам незачем выжидать время, – рассказывал Лот. – Из Парижа поедем в Италию, я хорошо знаю Италию и буду для Элли проводником…
Антон Деркс встал и попрощался. Спустившись вниз, обнаружил в маленькой гостиной свою сестру Отилию Стейн де Вейрт и старого доктора Рулофса.
– Дети наверху, – сказал он.
– Да, я знаю, – ответила maman Отилия. – Поэтому я и не иду наверх, чтобы не утомить maman…
– Так-так-так, – пробормотал старик-доктор.
Он сидел, тучный, развалясь на стуле бесформенной массой; одну негнущуюся ногу он выставил вперед, и над ней нависал его огромный живот. Чисто выбритое, но изборожденное морщинами лицо казалось лицом старого-престарого монаха; жидкие седые волосы, словно проеденные молью, неровно покрывали череп, похожий на глобус; на виске синела, подобно реке, рельефная вена; он то и дело что-то восклицал слабеньким голоском; под очками в золотой оправе слезились бесцветные глазки.
– Так-так-так, Отилия, наконец-то твой Лот собрался жениться…
Ему было восемьдесят восемь лет, этому старику-доктору, единственному, кто еще остался жив из поколения grand-maman и господина Такмы; Отилия родилась у него на глазах, когда он был еще начинающим врачом, недавно переехавшим из Голландии в Ост-Индию, поэтому он называл ее по имени, или говорил ей «деточка».
– «Наконец-то»! – воскликнула maman Отилия с раздражением. – По мне, так это слишком рано!
– Конечно, конечно, деточка, ты будешь без него скучать, ты будешь скучать без своего мальчика… Но они прекрасная пара, Лот и Элли, так-так, конечно, да-да… Оба преданы искусству, будут вместе, да… Наша добрая Анна сегодня еще не протопила! В этой комнате тепло, а там, наверху, холодрыга… Такма-то никогда не мерзнет, у него прямо огонь внутри, не правда ли? Так-так… Maman тоже любит, когда прохладно… Где уж там прохладно, я бы сказал, холодно… Здесь-то потеплее… А вчера maman было нехорошо, деточка!
– Да уж, доктор, – сказал Антон Деркс. – Благодаря вашим заботам матушка доживет до ста лет!
И, застегнув пальто, Антон ушел, довольный, что уже выполнил свой сыновний долг за эту неделю.
– Нет-нет-нет! – возразил доктор, но Антон уже закрыл за собой дверь. – До ста лет! До ста лет! Нет-нет, где уж там, я уже ни на что не способен, ни на что… Ведь мне восемьдесят восемь, восемьдесят восемь… Восемьдесят восемь, детка! Да, это возраст, ничего не скажешь, так-так… Нет, я ни на что не способен… Хорошо, что у maman есть доктор Тиленс, он-то молодой, да-да, он молодой… Вон дети уже спускаются! Так-так, добрый день, – поздоровался доктор. – Поздравляю! Очень за вас рад, очень за вас рад… Оба преданы искусству, не правда ли, оба преданы! С бабушкой все в порядке? Тогда я к ней поднимусь, так-так, ну-ну…
– Дети, а куда вы теперь направляетесь? – спросила maman Отилия.
– К тетушке Стефании, – сказала Элли. – А потом, возможно, к дяде Харольду.
Анна проводила их до двери, и maman Отилия, следуя за доктором Рулофсом, преодолевавшим ступеньку за ступенькой, вслушивалась в его бормотанье, но ничего не понимала: он бурчал себе под нос:
– Да-да, ох уж этот Антон, ну и ну… До ста лет! До ста лет! Что ж, он-то уж точно дотянет до ста лет… Да-да… хоть и был свиньей… Да-да, был свиньей!.. будто я не знаю! Знаю, знаю… Свиньей, свиньей… да, так, а может, он и сейчас свинья!
– Как вы сказали, доктор?
– Ничего, ничего, детка… До ста лет? А я сам, я и сам старый, восемьдесят восемь, восемьдесят восемь.
Пыхтя после лестницы, он вошел в комнату и поздоровался с двумя старыми людьми, почти его ровесниками, кивающими ему, каждый у своего окна:
– Так-так, добрый день, Отилия… Добрый день, Такма… Ну-ну, да-да… вообще-то тут не жарко…
– Разве? Ведь только-только начался сентябрь…
– Ну-ну, это у тебя всегда огонь внутри…
За ним следом, как маленькая девочка, вошла maman Отилия; она поцеловала мать, нежно и с осторожностью, а когда потом подошла поздороваться с Такмой, тот притянул ее к себе за руку, так что она поцеловала и его.
О проекте
О подписке