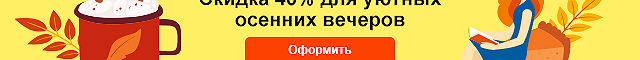
У клавиатуры дурацкие кнопки. Если набирать текст быстро, то часть букв обязательно не пропечатается. Будто комп чует, что я волнуюсь, и глотает слова вместе со мной.
«Тмчик, ты там кк?»
«Все ок», – выплывает ответ в окошке скайпа. Тут еще сбоку камера и микрофон с динамиком. Но их я врубаю, только когда вызваниваю Ленку из ее ссылки. С глухим Темчиком такой вариант не прокатит. Поэтому письменно. Не разговариваем, а показания даем. Шлем друг другу шифровки.
На экране беззвучно течет московское время: семнадцать часов тридцать семь минут.
«Темчик. Есть впрос».
«Спрашивай».
В довесок мне приходит смайл – желтая мордочка с прищуренным глазом. Я не люблю эти значки. Вечное подмигивание, неутомимое биение игрушечного сердца. Как сигналы в космос. Мы окончим разговор, а где-то в бесконечном Интернет-пространстве зависнут эти неотвратимо жизнерадостные или пожизненно рыдающие рожицы, которых никто никогда не увидит. Мне за них страшно – как за игрушечный кораблик, отправленный в море, «аж до самого горизонта». Со словами все то же самое.
«Темчик, двай расстанемся». Я вбиваю пропущенную «а» в слово «давай», а потом удаляю сообщение, вместо того чтобы отправить.
«Тема, я тебя лю». Снова стираю, даже не дописав.
«Мне страшнннно». Ага, так страшно, что аж пальцы дрожат и выбивают лишнее.
«Артем».
«Что, Женя». Он откликается сразу. Без вопросительного знака. Без интонаций. Он теперь часто говорит без интонаций, видимо из-за глухоты.
Можно просто свернуть диалог и ничего не объяснять. Скажу, что уснула.
Снова смайл. Желтая рожа в черных очках и с автоматом в крошечных лапах.
«Темка, ты охтился на ведьм. Ты же мог мня убить. Пчему ты этого не сделал?» Набиваю фразу и на ощупь тянусь к сигаретам – будто боюсь, что без моего присмотра сообщение отправится само по себе. Закуриваю и удаляю.
Табак крошится во рту, фильтр обиженно тлеет.
Это та правда, которую я не хочу знать: почему Зайцев Артем Викторович, тысяча девятьсот семьдесят четвертого года рождения, прописка московская, вероисповедание православное, школьное прозвище Скиф, рост сто восемьдесят семь сантиметров, телосложение плотное, на шее родинка с левой стороны… Почему взрослый, вменяемый и, в принципе, вполне добродушный человек три месяца назад своими руками убивал женщин и мужчин? И детей, в принципе, тоже – Гуньке тогда на вид шестнадцать было.
Мне на вид было двадцать пять, он забирал меня с работы и привозил вот в эту квартиру, дарил катехизисно шипастые букеты роз и поил приторным, похожим на ледяной мармелад, шампанским.
Он караулил в темном углу, он выслеживал и оглушал со спины.
Он носил с собой зажигалку и пропитанную бензином тряпку.
Он целовал меня в макушку и кормил с ладони мягким сыром.
Он подстраховывал девицу, которая чуть не удушила Аньку бусами, а теперь отвозит Аньку по утрам в лицей и покупает ей платья, глянцевые журналы и дурацкие брелоки.
Он стрелял в упор серебряными пулями – только для того, чтобы понять, где и как мы будем воскрешать жертву.
Я называю этого человека «Темчик» и реально каждый вечер жду его домой с работы. Как правило – еще и с ужином наперевес.
«Артем. Почму тебя зовут Скиф? Ты не пхож на кочевника».
«Это марка велика. Такой складной по типу „Камы“. На них все в детстве гоняли, помнишь? У тебя какой был».
«Дореволюционные марки вспомнить не могу. Вроде Руссобалт. В 1924 у меня был Харьков, птом Пионер, кажется. После войны я на трофейном ездила, названия не помню. А Скиф – это хорошо. Тольк мне на Салюте удобнее было, хотя там сидушка жестче».
«Ух ты! А у тебя красные катафоты были?»
Московское время семнадцать часов сорок одна минута. Темка приедет в восемь. Надо к его приходу заварить чай – черный, без всякой травы. По-мирскому.
«Нет, белые и оранжевые».
Я все-таки ставлю смайл в конце ответа.
Бывают такие яркие сны, про которые забываешь сразу, как тебя разбудят. Остается лишь солнечное ощущение, теплый след в воспоминаниях, на вкус напоминающий молочную ириску, втихаря схомяченную под одеялом. Именно это я сейчас и чувствую – нежную сладость на языке, чувство свободы во всем остальном организме. Жаль только, что такая красотища длится секунды полторы – до повторного воя телефонной сирены.
– Алло? – сиплю я, вглядываясь в окружающие сумерки. Опять в койке вырубилась. На экране ноута все следы преступления: там прыгают три разномастных вопросительных смайла от Темчика и мое лаконичное «мсссчччччччччччччччччч» – во сне ладонью на клавиши нажала.
– Дуська, есть пара минут? – интересуется женский голос.
Невнятно, но вполне благовоспитанно мычу в ответ.
– Ты дома сейчас?
– Дома. Сплю.
Девятый час вечера, нехило я так задрыхла. У меня же Темчик! Ужин! Обход на два района! Блузка Анькина! Целебная маска на морду! И платье надо выбрать на сегодняшнюю ночь – чтобы строго, но при этом сногсшибательно.
– Спасибо, что разбудила! – говорю я непонятно кому.
– Дуська, у меня свинарник на участке, третьей будешь? Свидетелей не хватает, Старый сказал, чтобы тебе…
Я шарахаюсь от собственного мобильника, кошусь на экран. «Танька Р.», то есть – Рыжая.
– Дусь, адрес запоминай, – категорично рубит Татьяна. – Едешь туда, где я живу… в той жизни жила, но выходишь из последнего вагона, потом налево и направо.
Мы с Танькой с осени не виделись, она за это время успела перелинять, причем внепланово, как раз по Темкиной вине. Характер, естественно, ни фига не изменился: конспираторшей была, конспираторшей и возродилась. Имена, адреса, явки и прочие пароли по телефону ни за какие коврижки не озвучит. Зря, что ли, Рыжую в свое время трижды арестовывали за шпионаж и один раз расстреляли как врага народа.
– …большой серый дом, там перейдешь дорогу… А вообще, лучше в собаку перекинься. Как из метро выйдешь, то сразу унюхаешь, домчишь за пять минут.
Ужин, блузка, питательная маска… Вот сейчас все брошу и помчусь на другой конец Москвы леший знает с какой целью!
– Сюда уже крысы конторские мчат. Жми! – Рыжая отключается.
Хваткая она баба. Там, где другие будут молоть чепуху и сеять вечное добро, Рыжая просчитает ситуацию на семь шагов вперед. Опыт сказывается, неповторимый лагерный.
Я включаю свет и начинаю метаться – строго по инструкции. Пыль. Тлен. Плесень. Травки разные. Документы на район. Помада, сигареты. Горсть мертвой ягоды вероники, проездной. Мобильник. Мирской паспорт, кошелек. Неразменные рубли. Сумку уложить как следует, чтобы ничего не вылетело и не помялось, когда буду перекидываться в собаку. Лучше ту серую замшевую взять, у нее два кармана на молнии.
Выскакиваю за сумкой. И замираю: в Анькиной комнате неторопливо звучат голоса.
– А Вадик пошел Инне Павловне жаловаться, а она ему не поверила и у меня спросила: «Аня, это правда?»
– Угу.
– Пап, а ты знаешь, что потом было?
– Угу.
– А вот и не знаешь. Потому что Инна Павловна сказала, что мы оба неправы…
Я подкрадываюсь к детской: Анютка на визг петель не обращает никакого внимания, а Темчик оборачивается – заметил, как ручка шевельнулась. Он, как оглох, сразу такой наблюдательный стал. И хозяйственный: наша мадемуазель сидит в кресле, распластав на коленях мою книжку, а Темчик рядом топорщится – с утюгом наперевес. Интересно, откуда в доме взялась гладильная доска?
– Женька, а ты зачем проснулась? Я папу уже ужином накормила – я ему хлопья с молоком сделала, а папа мне тортик принес!
По-моему, Анька еле сдерживается, чтобы не показать мне язык. Темчик внимательно смотрит на утюг и переключает на нем какую-то кнопку. Над доской немедленно возникает облачко пара. Это ни разу не ведьмовство, а спецэффект с термоподогревом. Я в таких вещах никогда не разбиралась.
– Передай папе, что я поехала на работу! – чеканю я.
Ключи от квартиры, перчатки, фляжка ржавой воды. Молодильное яблоко. Лучше даже два. Что у Таньки стряслось? Судя по голосу, неприятное, но любопытное. Именно под таким предлогом меня легче всего выманить из дому. Если вернусь до одиннадцати, то зайду в универсам, у нас зубная паста заканчивается. Если вообще не вернусь – они справятся без меня. Бумажные салфетки, пудреница, набор осиновых колышков.
Пока я – в собачьем обличье – мчалась от нужной станции метро по продиктованному маршруту, к подушечкам лап налип снег. И теперь, после обратной переброски, сапоги у меня забрызганы целиком и полностью. На пальто тоже какие-то бурые разводы и сомнительные пятна – словно машина из лужи окатила. Надо было сперва отряхнуться, а уже потом принимать человеческий вид.
– Над карманом еще грязюка! – сообщает вместо приветствия Рыжая, не вставая со скамейки.
Я ее по запаху легко вычислила: домчалась до нужного двора, разглядела нахохленный силуэт у ворот типовой школы-«самолетика».
– Ворот застегни, а то горло торчит. Я задубела вся.
– А конторские где?
– За Табельным полетели. Аргумент-то отрицательный, – хмыкает Татьяна, поднимая воротник толстенной черной куртки.
Хороший куртец, от приличной фирмы, теплый. Только на Таньке он смотрится как ватник. Особенно в сочетании с высокими армейскими ботинками и темным беретом на коротких волосах.
– Обновилась нормально? – Я прекращаю безнадежную борьбу с грязью.
– Как огурчик. Мне Кот мозги новые поставил, свежей закваски, хожу вся такая умная, даже не знаю, зачем мне такое счастье. – Танька уморительно чешет в затылке, прямо сквозь берет. – Курить будешь?
– Буду.
Я не удивлюсь, если Рыжая до сих пор дымит «Беломором», в ее мужиковато-военный стиль такое вписывается. Однако из кармана псевдотелогрейки выпархивает узенькая пачка дамского курева, пахнущего больше духами, чем дымом. Снег возле скамейки утыкан похожими бычками – не иначе Таня смолит по две сигареты подряд, от одной ей никотина мало.
– Старый приехал, заценил бодягу, велел конторских звать. Ну заодно в бланке расписался. – Танькино непривычно молодое лицо хмурится, делается суровым, как у советской героической статуи. – Уничтожать-то при трех свидетелях можно, а в протоколе пятеро должны быть. Я тебя сдернула, Ленке звоню, а она, оказывается, в Нижнем.
– Два года дали, – поясняю я.
– Это разве срок? Ну я спросила, кто теперь у Ленки на участке работает, она дела передавала, должна знать – кому. Позвонила этой Тамаре, вроде нормальная. Приехала, закорючку поставила и упорхнула. Район свежий, типа ей обжиться надо.
– Понятно… – кривлюсь я.
Может, неизвестная Смотровая по имени Тамара – вполне вменяемая барышня. Просто Ленка мне подруга, а потому я к ее сменщице не могу объективно относиться. Любая ведьма на новом участке первые вечера безотлучно сидит, старается не уезжать далеко. Какие могут быть претензии? А все равно злюсь.
– А твоя мала́я как? – Танька встает со скамейки, начинает постукивать ботинками. – Я с ней в Инкубаторе общалась, забавная деваха.
– Анютка? – Я не сразу соотношу эти характеристики с Анькиной вечно недовольной мордочкой. – Ну… ничего так.
– По матери скучает?
– Вроде да. – После того как Анька получила фотографию Марфы, больше мы на эту тему не заговаривали.
– Бедолага. Дусь, ты ей привет передавай, от тети Таты. Может, помнит еще меня.
– Передам… – За последний час я благополучно забыла об Анькином существовании. И о том, что я на нее и Темчика обиделась.
– Тань, а где свинарник-то?
– А ты чего, сама не чуешь? – Татьяна кивает на огроменный сугроб, наметенный между школьным забором и ближайшим гаражом. – Там все, внутри…
Начинаю всматриваться в ничем не примечательный снежный завал. Вон сигаретная пачка из него торчит, билеты автобусные. Внутри обломки детского совочка спрятались и какая-то маленькая пластиковая игрушка – не машинка и не солдатик. Больше похоже на капсулку из шоколадного яйца, с сюрпризом внутри. Еще в сугробе под слоями снега таятся две размокшие карамельки и рваный гондон. Все.
– Хороший сугроб – ни шприцов, ни бутылок.
– Мастерство не проспишь! – Танька самодовольно качает головой. – А я второй месяц категорию подтвердить не могу, аттестат куда-то пролюбился. Теперь хожу то в Шварца, то в Контору, восстанавливаю. Пока не восстановлю, зарплату не поднимут.
– Жуть какая! – отзываюсь я, не сводя глаз с сугроба.
Танька же мне явно не про фантики хотела сказать. Тут еще что-то есть: опасное, требующее особого вмешательства. Ибо под термином «свинарник» у нас подразумевают именно не сильно приятные явления, нарушающие порядок и спокойствие на территории.
– Тань, так это что… аргумент?
– А ты как думала? Крылатки тут зря, по-твоему, пасутся?
Во дворе и по ту сторону школьного забора слишком уж активно шныряют тени. Я в снегу штук пять насчитала и еще трех на ближайшей березе. А главная кошавка – черная, крупная, почти круглая из-за теплого меха – щурится на меня с крыши гаража. Чирикает что-то возмущенное, встряхивая роскошные крылья. В снег мелкими брызгами оседают темно-зеленые перышки.
– Цирля?
– А кто еще? Старый ее с собой привез, а она обратно в машину не полезла. В крышу впечаталась и сидит. Севастьяныч сказал, что сама потом домой вернется.
– Куть-куть… – От меня еще собакой до сих пор пахнет, Цирля вряд ли подойдет. – А я думала, Гунька крылатку с собой забрал. Он с ней разговаривать мог.
– Да леший их со Старым разберет. – Танька пожимает плечами – словно сигнал подает. Крылатки разражаются одинаковым, надсадным и протяжным мявом.
Сугроб меняется на глазах – так, словно на него выплеснули ведро горячей воды. Снежная неровная корка проваливается, растворяется в дрожащем жарком воздухе, во все стороны летят колючие льдинки, мелкие брызги и даже крошечные пузырьки. Сквозь островки снега проглядывает земля – мокрая, липкая, словно вскопанная лопатой. Будто здесь взрыхлили круглую клумбу, диаметром полметра. Или открыли канализационный люк, а под крышкой обнаружился засыпанный сточный колодец.
Я присаживаюсь на корточки, всматриваюсь в жирно блестящую землю. В центре проталины лежит голубая пластмассовая расческа. Банальный гребешок на длинной ручке. Двух зубцов не хватает, на кромке процарапаны какие-то мелкие буквы. А сбоку цена выбита – «11 коп». И пентаграммка – советский знак качества.
– Мать моя женщина! Тань, это оно?
– Мряяяяяяу! Мяяяяяяяя!
– Оно самое. Руки! Без конторских не надо. – Меня перехватывают за запястье.
Угрюмый кошачий мяв звучит пронзительно и строго – почти костельным хором. Как «Аве, Мария» или даже что-то заупокойное.
– Замолчали живо! – Таня показывает ближайшей крылатке немаленьких размеров кулак. – Цирля, уйми своих мамзелей…
– Мееееее… Мрууууу… – огрызается Цирля, слетая с крыши гаража.
Теперь бывший сугроб окружен крылатыми кошками: они скребут лапами оплывающий снег, топорщат мех и перья, нетерпеливо порхают, огибая по воздуху проталину так, словно она накрыта огромным прозрачным стаканом. Сквозь нежданно весенние запахи пробивается другой, сильный и тревожный – немного ацетонный, немного прогорклый.
Расческа светлеет, становится желто-прозрачной. Оттиснутый ценник рассасывается, рукоятка вытягивается, на ней проклевывается стилизованный рыбий хвост. По пластмассе неспешно бегут трещинки, превращающиеся в простенький узор. На месте отломанных зубцов вырастают новые.
– Ручка! Смотри, опять! – Расческа снова меняет размеры и длину. Крылатки уже не мечутся, они сидят вокруг проталины и ласково урчат, чуя подступающее тепло.
Меня обдает жаром – будто рядом что-то бесшумно взорвалось. Снова сработал аргумент, началось следующее преобразование.
Расческа стала серебряной – вычурной, украшенной затейливой резьбой. Недостающий зубчик проклюнулся на своем месте. На длинной ручке можно разглядеть тщательно отчеканенный сюжет – дуб в цепях, русалку на ветвях, усатую кошачью голову.
– Мряу, мряу, мяяяяя!
– Мама…
– Дуська, руки убрала, урою! – На моих плечах две крупные ладони. – Не трогай!
Я падаю на бок, в сырой снег. Лекарственно-гаражный запах усиливается, в нем можно различить спирт и керосин и что-то вязкое, гниловатое. Так пахнет застоявшаяся вода в вазах с цветами.
– Мрээээ… мяяяяя… мяяур!
– Цыц! – орет мне в ухо Татьяна.
А я ведь молчу. Я просто пытаюсь продвинуться вперед, дотронуться до аргумента, своими руками почувствовать, как он снова сменит форму, цвет, материал…
– Сгоришь же! Там сто градусов, как в кипятке! – Танька Рыжая сама тянется все ближе.
– Я в перчатках!
– Ты овца!
– Мяяяяр! Мяяя… Каррр!
– Темнеть начал, смотри скорее!
– Обе в сторону! Быстро! Ползком! – сквозь кошачий вой и наш шепот пробивается еще один голос. Громкий, твердый. – Быстрей, я сказал!
Меня – и вцепившуюся мне в плечи Таньку – пробуют куда-то утянуть. А мне не надо, чтобы меня трогали, мне не хочется чувствовать этот дурацкий мокрый снег. Я сейчас не здесь и не с вами.
Я маленькая, мне восемь лет. Мне тепло и уютно, и жар не машинным маслом пахнет, а печеными яблоками, горячим шоколадом и кренделем с сахарной пудрой. А еще – мамиными духами, фиалковыми, в таком высоком флакончике синего стекла, она мне его обещала отдать, когда я вырасту, и ленты мне надушить тоже обещала.
Ваш снег – неправильный и липкий, он забивается в рот и лезет в уши. Мой снег – хороший, добрый. Он летит в темноте, подсвеченной уличными керосиновыми фонарями. А я стою у окна, на цыпочках, прижав нос к заиндевелому стеклу. Я проскребла себе маленькое окошечко и теперь в него подглядываю. А за спиной тяжелая портьера, темно-зеленая с золотой каемкой, бархатная, на ощупь – почти как мой игрушечный мишка. Портьера держит запахи. И поэтому мне в лицо морозом и зимой пахнет, а в спину – вкусным, сказочным, домашним – пирогами с капустой и вареньем, которые на каждые праздники печет кухарка Луша. Сегодня Рождество, поэтому теплый запах сильнее обычного, это он забивается мне в нос и щекочет лицо. Он, только он. А не этот ваш снег! И говорит со мной сейчас мама, зовет меня так, как никто никогда больше не звал – ни в замужествах, ни в Шварце, ни в жизни нынешней. Меня тогда звали Долли, тихо и ласково, раскатывая нежное «эль» трелью колокольчика…
– Нахлебалась!
– Опоздал!
– Готова! Вырубается сейчас…
По щекам течет растаявший снег и елозят незнакомые пальцы, снуют от висков к подбородку и обратно. Зачем так? Мама никогда такого не делала… Мне. Плохо. Мама…
Зубы ритмично постукивают о край жестяной кружки-крышки – у конторского Отладчика оказался с собой термос. А там – горячий чай, с лимоном и капелюшкой коньяка. Не зерничный, а черный байховый. Я сижу на облюбованной Танькой скамейке, обхватив обеими ладонями теплую жесть. Впереди темнеют аттракционы детской площадки – горка, карусель и скрипучие, мягко покачивающиеся в темноте качели. В том дворе, где я три недели назад потеряла сознание, кроме этого всего была еще песочница с навесом-грибком. Остальное – без изменений. Та же дурацкая слабость в руках. Тот же вкус мокрой ваты во рту. Тот же похмельный озноб. Только теперь меня еще и тошнит. Докатилась. Допрыгалась. Трясу башкой и пробую подняться. Сидящая рядом Танька отнимает у меня кружку:
– Не трепещи, все нормуль уже.
О проекте
О подписке