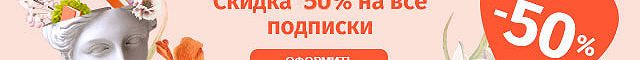
Бэкон различает историческое познание и философское, или научное. Первое направляется на конкретное и единичное, философия же, или наука, имеет дело с общими понятиями; первая возникает из памяти, вторая есть функция разума. Отделивши боговдохновенную теологию, как особый ряд познания, он подразделяет затем философию или науку соответственно трем объектам разума: Бог, природа, человек – на три ветви: естественную теологию, антропологию (физическую вместе с медициной и психическую, под которой понимаются вообще науки о духе) и натурфилософию[6]. Подразделение это, как бы оно ни было неудовлетворительно в остальном, показывает во всяком случае, что Бэкон имел в виду подвести под понятие философии все научное познание. Вне остается только история (и поэзия), потому именно, что она не наука.
Совершенно так же и у Декарта понятие философии охватывает все научное познание. Его главное систематическое произведение носит заглавие: Principia philosophiae; в первой книге оно содержит краткий трактат о вопросах метафизических и теории познания, во второй – начала механической физики, в третьей – космологию, в четвертой – ряд физических, химических и физиологических объяснений. Мы назвали бы, может быть, такое произведение скорее всего энциклопедией наук. В предисловии он сам определяет философию как совокупность человеческой науки. Главными частями ее он называет: 1) метафизику, 2) физику, 3) технические науки; между последними, в частности, медицину, механику, этику[7].
Такое понимание философии остается в последующее время неизменным в обоих исторических течениях. Приведу несколько примеров. Томас Тоббс в начале своей «Логики» определяет философию как познание действий или явлений из их причин, выведенное при помощи правильного мышления. Цель ее, как у Бэкона и Декарта, господство над вещами для наших целей: scientiam propter potentiam. Ее главные части суть: математика, естествознание (начинающееся, собственно, лишь с Коперника, Галилея и Гарвея) и philosophia civilis, которая не старше книги De cive. К философии не принадлежат: теология естественная и откровенная история, естественная история, равно как и история политическая, каковые все – не науки.
Точно так же и Дж. Локк употребляет слово «философия» как равнозначное со словом «наука». Главными ветвями ее он обозначает: Physica или natural philosophy Practica, главной частью которой является этика, Semiotica, важнейшая часть которой – логика[8]. Что и он также считает натурфилософию главной частью философии, ясно видно из предисловия к его «Опыту о человеческом уме». Его честолюбие сводится лишь к тому чтобы в качестве работника очистить от всякого сора ту почву на которой созидали свои прочные строения такие мастера, как Бойль, Сайденгэм, Гюйгенс и Ньютон.
Такое же употребление слова в ходу и в сфере точного исследования. Ньютон называет свое сочинение Naturalis philosophiae principia mathematica. Математик Уоллиз (Wallis) в одной своей статье 1696 года (об основании Королевского Общества наук) говорит: «Занятие наше состояло в том, чтобы, за исключением теологических и политических декл, обсуждать философские исследования и все, что сюда относится, именно: физику, анатомию, геометрию, астрономию, наутику статику, магнетизм, химию, механику и естественно-научные эксперименты. Мы рассуждали о кровеобращении, венных клапанах, Коперниковых гипотезах, природе комет и новых звезд, спутниках Юпитера, улучшении зрительной трубы и шлифовании стекол для этой цели, вес воздуха, возможности или невозможности vacuum'a и horror vacui и других вещах, принадлежащих, как тогда говорили, к области ее «новой философии», всесторонне заложенной со времени флорентинца Галилея и англичанина Бэкона Веруламского, как в Италии, Франции, Германии и других странах за границей, так и у нас в Англии»[9].
Равным образом старое понятие сохранилось и в континентальной философии, следовавшей за Декартом, как своим вождем. Спиноза понимает под системой философии единую систему всего научного познания, отвечающего единой действительности – Natura sive Deus. Свое главное сочинение он называет не системой философии, а этикой, потому что одна главная ветвь философии, philosophia naturalis, в нем отсутствует или только намечена в некоторых вспомогательных предложениях 2-й книги. Лейбниц, бывший как у себя дома во всех областях научного исследования – как в исследовании исторических источников, так и математике и физике, – имеет совершенно такое же представление об абсолютной форме науки или философии, как и Спиноза: он представляет ее себе как демонстративную систему, в которой при помощи знаков производится счисление, подобно тому как это делается в арифметике. В этом смысле говорит он в одном месте об Encyclopedic demonstrative[10].
Хр. Вольф, первый обработавший новую философию в школьную систему, начинает свой трактат о сущности философии (во вступлении «Логики») с различения исторического познания и философского. Первое отвечает на вопрос что, второе на вопрос почему: cognitio eorum, quae sunt vel tiunt historica, cognitio rationis eorum, quae sunt vel fiunt, philosophica dicitur. Кто знает лишь факт (nudam facti notitiam), что вода течет вниз по руслу тот обладает историческим познанием; философским же обладает, напротив, тот, кто знает, что это обусловливается уклоном почвы и давлением верхних частей воды на нижние. Как третий род познания, он добавляет математическое, определяющее отношение величин. Философия извлекает, впрочем, пользу также и из исторического и математического познаний. В третьей главе трактуется о главных частях философии; их три: естественная теология, психология и физика; сюда присоединяются три нормативные науки: логика, практическая философия, опирающаяся на психологию, и технология опирающаяся на физику. Сюда же относится еще онтология, как наука об общих всему сущему определениях.
Как видно, естествознание всюду образует собой главную часть, а у некоторых оно представляет собой даже собственную субстанцию философии; и метод его всюду является собственной формой научного познания вообще. По его образцу стараются поднять до уровня науки – науки духовные, как это решительно ставит себе целью Давид Юм уже в заголовке своего «Трактата о человеческой природе».
Это воззрение не сделалось чуждым и 19 столетию; в Англии и во Франции оно так и осталось обычным. Я напомню о Philosophie positive Огюста Конта и о системе синтетической философии Герберта Спенсера. Для Конта философия по своей субстанции не отличается от наук, – она есть универсальное сознание о состоянии, развитии, цели и методе научного исследования в его различных разветвлениях. Как на свою особенную задачу, Конт смотрит на возвышение науки о социальных явлениях на степень позитивной науки, достигнутую уже раньше естествознанием для области астрономических, физических, химических и физиологических явлений; это та самая цель, которую еще Юм поставил себе по отношению к духовным наукам. Очевидно, и Спенсеровская синтетическая философия заложена в общем по той же самой схеме. Он определяет философию как конечное и высшее единство научного познания; «знание низшего рода есть необъединенное познание, философия есть совершенно объединенное познание»[11]. Если между частями системы не встречается рядом с психологией и биологией также и физики, то сам автор объясняет это случайностью.
Лишь 19 столетие внесло смуту в эту прочную традицию; в Германии дело дошло одно время до такого понимания философии, которое вполне отделило ее от науки, даже противопоставило ее последней.
Путаница начинается с Канта; его различение познания a priori и a posteriori служит ей точкой отправления. Под первым он понимает познание, которое разум может почерпать чисто из самого себя, тогда как к последнему должен привзойти опыт. Что такие a priori достоверные суждения, имеющие, однако, и объективное значение, существуют, составляет собственный предмет доказательства в двух первых больших отделах «Критики чистого разума», в эстетике и аналитике. На пороге физики встречаются, так думает Кант, именно такого рода суждения, например: количество материи неизменно, действие при передаче движения равно причине и т. д. Систематическое изложение всех познаний a priori было бы тем, что следовало бы назвать метафизикой или философией в настоящем и собственном смысле. Обстоятельство, «что это различение двоякого рода элементов нашего познания, из которых одни вполне a priori находятся в нашей власти, другие же должны быть заимствуемы из опыта, оставалось до сих пор очень неясным даже мыслителям по профессии», – это обстоятельство так долго препятствовало правильному отграничению философии от эмпирических наук[12].
Таким образом, философия в первый раз была отделена от наук по своему понятию и поставлена самостоятельно. Конечно, Кант при этом вовсе не думал, что эта априорная философия содержит настоящую сумму нашего знания и имеет причину быть высокомерной по отношению к эмпирическим наукам. Напротив, суждения «чистого естествознания» не содержат в себе, собственно, никакого познания действительности; это аксиоматические суждения, приобретающие значение и цену познания лишь тем, что ими мы обнимаем данное ощущением разнообразие; без этого последнего они остались бы пустыми схемами возможного опыта. Намерение Канта состоит именно в том, чтобы с помощью своей критики уничтожить реальную или трансцендентную метафизику, рациональную теологию, космологию и психологию Вольфа и поставить на их место просто формальную метафизику.
Но и здесь случилось то, что так часто встречается в истории: высказанные мысли имеют действия и судьбы, независимые от намерений родоначальника их. Кант против своей воли сделался отцом спекулятивной философии. Из кантовского основного положения, что формы мышления суть в то же время законы природы вообще, как совокупности явлений, развилась та философия, которая задумала вывести (путем имманентного диалектического развития понятий) весь мир, природу и историю из природы представления. Общий основной характер философий Фихте, Шеллинга, Гегеля состоит в убеждении, что путем нового метода чистого мышления, вращающегося в одних понятиях, возможно создать систему абсолютного познания действительности, независимо от опыта и эмпирических наук. «Наукоучение, – говорит Фихте, – отнюдь не спрашивает опыта и не обращает на него никакого внимания. Оно должно было бы быть истинным, если бы даже не могло существовать никакого опыта, и оно было бы a priori уверено, что всякий, возможный в будущем опыт должен был бы отвечать выставленным им законам»[13]. Точно так же во вступлении к «Grtindzuge des gegenwartigen Zeitalters» он объявляет, что «философ занимается своим делом (в данном случае конструкцией истории) исключительно a priori, не обращая внимания на какой-либо опыт, и должен быть в состоянии описать a priori все совокупное время и все возможные эпохи его».
Подобным же образом, как Фихте a priori дедуцирует историю, Шеллинг a priori конструирует природу, выражая при случае свой гнев по адресу «слепого и безыдейного способа естествоиспытания, установившегося всюду со времени порчи философии Бэконом, физики – Бойлем и Ньютоном»[14]. В Гегеле спекулятивная философия достигает своего завершения; вся действительность конструируется им из понятий; действительность и истина совпадают в его системе. Рядом стоят эмпирические науки; они собирают всякого рода знание единичного не ex principiis, из понятия, а ex datis, при помощи внешнего сведения. Истинное познание действительности есть философское; форма его – диалектическое развитие понятий – есть не что иное, как субъективное повторение объективного процесса развития идеи, т. е. самой действительности.
Никогда еще философия не говорила таким гордым языком. Покоясь вполне на самой себе, она отказала теперь от службы наукам, которыми она пользовалась прежде, как своими органами; она не нуждалась в них более, она открыла тот «королевский путь» к познанию и из самой себя воспроизвела абсолютное познание вещей. Если угодно, и здесь, значит, сохранилось старое понятие философии, как совокупности всего собственно научного познания, но с одним отличием: раньше сюда относилось и научное исследование, особенно естественно-научное, теперь же оно было исключено, как донаучный метод.
Однако цвет спекулятивной философии продолжался недолго. Начиная с тридцатых годов репутация ее быстро пала, и она – а с ней вместе и всякая философия – сделалась предметом глубочайшего презрения. Несколько причин вместе сделали ее крушение таким внезапным и разрушительным. Решительной же причиной было враждебное положение, которое она сама заняла по отношению к научному исследованию. Естествоиспытание и историческое исследование, которые сами стали очень сильно расти с двадцатых годов, все более и более отвлекали от спекулятивной философии свет и воздух, т. е. доверие и участие подрастающего поколения. И это последнее воздало теперь философии за все то пренебрежение, которым спекулятивная философия награждала при случае научное исследование: философия будто бы вовсе не наука и вообще не заслуживающая серьезного внимания вещь, а софистическая ловкость говорить о вещах вообще, с известным видом смысла и разума, фиглярское искусство производить на свет путем смешения общих понятий всякого рода темные и глубокомысленные изречения оракула – на удивление праздным людям.
Таким образом, философия очутилась в затруднительном положении. Свое старое достояние, совокупность научного познания, она отстранила, чтобы пуститься за высшим, чистым познанием а priori. Теперь это последнее вместе с диалектическим методом ускользнуло от нее между пальцев. Подобно той собаке в басне, которая, хватая тень, выпустила из зубов мясо, она осталась теперь ни с чем. Как поступила она в этом положении? Самым подходящим было бы обозначить спекулятивную философию как эпизодическое заблуждение и возвратиться к ее старому понятию. Раз должно было расстаться с притязанием на то, что она обладает особенным способом приобретать познание действительности, то тем самым требовалось возвращение к старому пониманию ее отношения к наукам.
Она не сделала этого. И за причиной ходить не далеко: у представителей ее не нашлось достаточно мужества, чтобы возвратиться к старому понятию; оно, казалось, обременяло их слишком тяжелыми, даже невыполнимыми обязательствами. Ведь объявляя философию совокупностью научного познания, они тем самым должны были бы, по-видимому, сказать, что они в своем лице обладают чем-то подобным. А кто решился бы выставить себя на посмешище, которое вызвано было бы таким утверждением?
Раньше это было иначе. Греческие философы без дальнейших рассуждений согласились бы на такое толкование их имени: в самом деле, как сказали бы Демокрит или Аристотель, они действительно обладали, или искали нечто вроде универсальной науки о вещах. И средневековые философы точно так же не отступили бы перед требованием, вытекающим из этого понятия; и Альберт, и Фома наконец, даже всякий самый молодой magister artium, только что отбывший свое biennium (в средневековых германских университетах каждый магистр после промоции должен был два года читать о философии), признал бы это понятие и сказал: во всяком случае, он думает, что, насколько это вообще возможно для человека, он настолько освоился с науками, что может назвать себя в известном смысле обладателем их. Ведь он, чтобы сделаться «учителем» (Meister), проштудировал все сочинения «философа» и теперь способен и готов объяснить любое из них, если бы таковое досталось ему по выбору ли, по очереди ли или по жребию (жеребьевка книг между читающими магистрами была довольно обыкновенна в средневековых университетах). Потому ведь он и назывался учителем искусств, что мог обучать им всем – математике и астрономии, равно как физике и метафизике, логике и риторике, этике и политике, – он сам представлял собой уменьшенную копию и подобие первого великого учителя, Аристотеля. То же самое сказал бы и доктор философии 16 и даже 18 столетия. Также и Меланхтон
О проекте
О подписке