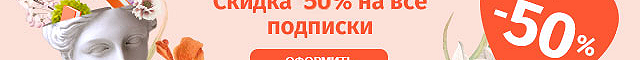
Глава 2
Не в свои сани не садись, или Откровенность тоже есть ложь
Чужая душа – потемки…
Смысл этой поговорки, а точнее, глубинный ее смысл Иван Федорович уяснил уже давно, как только столкнулся с людскими душами на следственном поприще. Мало того, потемки – некоторые души, с которыми приходилось иметь дело судебному следователю Воловцову, – были настоящим мраком, где таились такие чудища, что не приведи Господь.
Черными и мерзкими были души тех трех злодеев, которые ни за что ни про что убили шестилетнего мальчика Колю Лыкова, отрезав перед этим у него, еще живого, руку, ибо, по поверью, рука невинного младенца, отнятая у него еще при жизни, охраняет воров от поимки.
Черной была душа управляющего имением графа Вильегорского господина Козицкого, что порешил из-за денег главного управляющего Попова, честнейшего и порядочнейшего человека, приехавшего к нему с финансовой визитацией от графа.
Некуда было ставить клейма на душу и тело Анастасии Чубаровой, сожительницы управляющего имением Козицкого, несомненно, принимавшей участие как минимум в сокрытии трупа Попова, а может, и подбившей Козицкого на его смертоубийство с целью завладеть деньгами, собранными с имений графа Вильегорского.
Воловцову так и не удалось привязать Чубарову к делу об исчезновении главного управляющего имениями Попова, о чем судебный следователь по наиважнейшим делам сожалел и по сей день. Не хватило ему тогда улик против нее, выкрутилась, змеюка. Но что по ней плачет каторга, в этом у Ивана Федоровича не имелось никаких сомнений.
Непроходимым мраком была наполнена душа дворника Нурмухаметова, насиловавшего женщин, а затем убивавшего их и разбивавшего до неузнаваемости их лица.
А вот души Ивана Гаврилова, бывшего сидельца исправительного арестантского отделения, судебный следователь по наиважнейшим делам Воловцов понять никак не мог.
Вроде бы мужик как мужик. Смекалистый. Хозяйственный. Чувствовалась в нем такая мужицкая жилка. Домишко у него в Божениновском переулке на вид был неказистый, но во дворе кудахтали куры, гоготали гуси и хрюкал в хлеве откормленный порося.
Иван Федорович, перед тем как снять показания с Гаврилова, навел о нем справки и узнал, что дом Гаврилову достался от отца Степана Евдокимовича, приехавшего из села Зубово на заработки и едва не вышедшего в гильдейные купцы. Устроился вначале Степан Гаврилов сподручным к подрядчику по строительной части. Быстро приобрел навык и умение в работе. Верно, смекалка у Гавриловых была в роду. Подворовывал, конечно, помалу строительными материалами, а потом, окрепнув, открыл торговлишку кирпичом, тесом, строганым брусом и оконными рамами. Дело шло весьма бойко, ежели смог Степан Евдокимович вскоре прикупить усадебку в Божениновском переулке, с домишком, дворовыми постройками и садом в два десятка яблонь, урожай от которых также шел на продажу. И все бы ничего, да нашла на семью Гавриловых нежданная хворь-напасть: вначале преставилась супруга Степана Евдокимовича Аполлинария Прохоровна, еще совсем молодая женщина, иссохнув, словно щепка, а потом отдал богу душу и сам хозяин, так же истаяв, словно восковая свечечка в палящий день. Ваня, единственный сын, остался один в большом городе, в котором до него никому не было дела.
Нет, он не пропал, сдюжил, хотя лишился родителей в шестнадцатилетнюю пору, в возрасте, когда особенно остро нуждаешься в добром слове, в поддержке близких людей. Остался наедине с чуждым миром, полным соблазнов и опасностей. Сумел претерпеть беду и многочисленные горести, потихоньку свернул отцово дело, не потеряв ни гроша, но приобретя алтын, то бишь распродав оставшийся тес, брус, кирпич и прочий товар вполне прибыльно. Словом, жить было можно. Помимо прочего, двор был полон всякой живности, за которой требовался глаз и уход. Правда, гнедого конягу и телегу, на которой Степан Евдокимович самолично доставлял заказчику товар, пришлось продать (тоже не продешевив), но все остальное было сохранено и даже слегка приумножено. Более того, для надзора за хозяйством нанял Иван работницу и экономку в одном лице, без двух годов тридцатилетнюю рябую девку Груню, и по сей день пребывавшую в целомудрии, которая сохранила все его хозяйство, одинаково как и собственное девичество, покуда он отбывал срок в исправительном арестантском отделении.
Попал Иван в арестантские роты, можно сказать, по собственной глупости. А глупостей или ошибок, что содеял Гаврилов в своей жизни, по большому счету, было всего-то две. Но о них судебный следователь по наиважнейшим делам Иван Федорович Воловцов знать не мог…
Первая ошибка – это когда Иван сел играть в фараона с Коськой Евграфовым, про которого говаривали, что он в карты лукавит. Однако за руку его никто и никогда не ловил, а Коська на неприятные вопросы, важно оттопытрив губу, ответствовал, что это всего лишь слух, пущенный его недоброжелателями и завистниками на его счастливую фортуну.
– Ну, везет мне в картишки, робя, – говаривал Коська своим приятелям, в коих какое-то время ходил и Иван. – Что я могу с этим поделать, как не попользоваться таким фартом?
Везло в карты и Ивану. Поигрывал он в картишки по молодости лет. Только Гаврилов играл честно и не передергивал, а вот Евграфов жульничал нещадно. Ну и профукал Коське две сотни, столь нужные в его немалом хозяйстве…
Слава богу, что, когда он их принес, хватило разуму не отыгрываться. Молча отдал деньги шулеру и на его предложение «сыграть по маленькой» ответил сквозь зубы:
– Не желаю.
С той поры карт в руки Иван не брал, одинаково как и в рот – водки…
Вторую ошибку Иван совершил, когда ему стукнуло двадцать два года.
Что за ошибка?
Да очень простая: парень влюбился.
Конечно, все влюбляются, и даже если любовь не становится взаимной, никакой жизненной ошибкой такая напасть не считается, наоборот, часто оставляет в душе теплый след. Это – как желтуха или скарлатина в детском возрасте, которой нужно непременно переболеть, чтобы выработать в организме иммунитет к большим страданиям. После чего – прощай, отрочество, и наступает пора серьезного взросления.
Ошибка заключалась в том, что влюбился Иван Гаврилов в девицу не своего круга. То бишь в барышню. Ежели выразиться иносказательно – сел не в свои сани.
Ведь он кто? Крестьянин и сын крестьянина с тремя начальными классами образования, полученными в церковно-приходской школе. И еще – волею провидения проживающий в Первопрестольной столице, в доме, мало чем отличающемся от крестьянской избы в какой-нибудь деревне Горелые Пни или Мокрая Выпь. А та, которая лишила его сна и перевернула всю жизнь, была дочерью горного инженера, столбовой дворянкой, играла на фортепьянах, сочиняла стихи и посещала высшие женские курсы Герье.
Познакомились они в кондитерской, вернее, у входа в кондитерскую. На улице шел дождь, и Ксения случайно задела его зонтиком и поцарапала щеку. Платочек, который она дала ему, чтобы он вытер капельку крови, проступившую на щеке, пах жасмином и еще чем-то необъяснимым, что всколыхнуло его юношескую душу. Так бывает, когда счастье нечаянно коснется вас своим легким трепетным крылом. А точнее, обдаст легким дуновением своих крыльев.
У него хватило смелости не только поблагодарить, но и представиться по всем правилам.
– Разрешите представиться, – произнес отрок подсевшим от волнения голосом. – Иван.
– А по батюшке как? – весело спросила девушка, не без интереса посматривая на парня.
– Степанович, – не смутившись, ответил Гаврилов.
– Ксения Викентьевна, – произнесла девушка и подала невесомую ручку.
Иван пожал ее вначале, потом же, неловко наклонившись, поцеловал.
– Вы приезжий, Иван Степанович? – спросила Ксения.
– Нет, я местный, – быстро ответил Гаврилов и поправился: – Коренной москвич.
Наверное, он показался ей занятным. Эдакий крепкий парень в полосатом крестьянском спинжаке и косоворотке с расстегнутыми пуговицами и с мокрым чубом, не знавшим гребня – пригладил пятерней, и полный порядок! Таких мужчин в ее круге не было, а те рафинированные студентики, что числились в ее поклонниках, не шли с ним ни в какое сравнение. Ей надо было спешить на лекцию, но уходить положительно не хотелось. Медлил и Иван, переминаясь с ноги на ногу.
– А-а-а… вы… – произнесла было Ксения Викентьевна и запнулась. Она не знала, что добавить. – Ну, мне пора, – наконец сказала она и сделала шаг в сторону.
– А платок? – нерешительно спросил Иван, комкая ее платочек в руках. – Давайте я вам его занесу… как-нибудь. Простирну и принесу…
– Оставьте его себе… Впрочем, занесите, если хотите. – Ксения посмотрела на Ивана, потом перевела взгляд в сторону и сказала то, что еще четверть часа назад ни за что бы не сказала ни одному незнакомому мужчине: – Я живу с маман в доме Семеновой на Зубовском бульваре. Знаете?
– Знаю, – ответил Иван.
– А кто такая Семенова, вы знаете? – с хитринкой посмотрела на парня девушка.
– Нет, – честно признался Гаврилов.
– Это знаменитая в прошлом актриса Александринского театра, не единожды воспетая Пушкиным в своих стихах. Кто такой Пушкин, вы, надеюсь, знаете?
– А то! – улыбнулся Иван. – Это самый знаменитый русский поэт. Он – гений!
– Вы правы. – Ксения внимательно посмотрела на Ивана: – А хотите, я вам почитаю свои стихи?
– Вы сочиняете стихи? – округлил глаза Гаврилов.
– Сочиняю, – не без гордости проговорила Ксения. – Конечно, мои стихи не такие, как у Александра Сергеевича, но рифма и чувство, как считают… некоторые, в них тоже имеются.
– А кто считает? – не очень вежливым тоном спросил Иван.
– Костя Бальмонт… Константин Дмитриевич то есть… – опустив взор долу, призналась Ксения.
– А это кто, тоже поэт? – отчего-то посмурнел Иван. Кажется, он уже ревновал Ксению. – Я вижу, вы знаете всех этих поэтов…
– Ну уж, так прямо и всех, – зарделась Ксения. – Но некоторых знаю. Константин Дмитриевич – очень большой поэт… Он еще довольно молод, но уже так много сделал в жизни… Так вы хотите послушать мои стихи или нет?
– Очень хочу, – просто ответил Гаврилов.
Ксения на мгновение закатила глаза, словно школьница, вспоминающая урок, и нараспев продекламировала:
Есть у меня одно желанье:
Не ссориться с самой собой,
От добрых – заслужить вниманье,
И подружнее жить с судьбой;
Быть ласковой и благосклонной,
И в свете жить с людьми уметь,
Шутливой быть, и быть спокойной,
И сердце доброе иметь.
Она закончила и вопросительно посмотрела на Ивана:
– Ну, что скажете?
– Я-а-а… – протянул Гаврилов, не найдясь с ходу, что и ответить. Не хватало слов. Но зато внутри было в избытке того, чему слов до сих пор еще не придумано…
– Ясно, – резюмировала Ксения. – Вы не совсем разобрали, так?
– Не совсем… – кивнул Иван.
– Правильно. Нельзя судить о качестве стихов по двум четверостишьям. Значит, так, – она твердо посмотрела на Гаврилова, – вы, Иван Степанович, приходите ко мне в пятницу, в шесть вечера.
– Хорошо, благодарствуйте. И платочек аккурат вам тогда возверну, – обрадовался Иван.
– Вот и славно. До встречи.
И она ушла, оставив после себя все тот же необъяснимый запах возможного счастья…
Он пришел. В пятницу, ровно в шесть пополудни.
Приоделся, благо, было во что. Платочек Ксении он выстирал и выгладил так, что тот стал свежее и глаже, нежели в тот момент, когда он принял его из рук девушки.
– Вот, – сказал он, протягивая платок, когда прислуга проводила его в гостиную и Ксения подошла к нему с улыбкой. – Еще раз премного благодарен…
– Пустое! – Она легонько тронула его за рукав и указала на стул возле низенького столика с драконами, исполненного явно в китайском стиле. В начале века разные китайские вещи: крохотные столики, циновки или безделушки в виде качающих головами пузатых болванчиков – стали очень модными и пользовались в открытых домах большим спросом.
Иван присел на краешек стула и только теперь заметил, что в гостиной он не один. Несколько мужчин стояли группками возле зашторенного окна и тихо переговаривались. На кресле в углу сидела какая-то старушенция и лорнировала проходящих мимо нее гостей Ксении долгим пристальным взглядом. Так же она посмотрела через лорнет на Ивана, отчего Гаврилову сделалось на время как-то особенно неуютно. Точно так, будучи годов шести от роду, он чувствовал себя в больнице, куда его привез на извозчике отец и где, заставив догола раздеться, его осматривали с ног до головы в присутствии сестры-нянечки два бородатых мужика, ощупывая холодными пальцами… Худющая очкастая девица возле рояля курила длинную папиросу и оглядывала всех презрительным взглядом метрессы, которая знает всё и вся. Словом, публика в гостиной Ксении была весьма пестрая…
А потом началось…
Точнее, вначале горничная разнесла всем посетителям кофей в крохотных чашечках с маленькими серебряными ложечками. Пивать кофей Ивану доводилось, правда, всего два раза в жизни. И оба раза – в той самой кондитерской, у входа в которую Ксения поцарапала его своим зонтиком. Кстати, зонтик тоже был с драконами, красными и желтыми, которые смотрели в разные стороны, высунув языки, похожие на змеиные жала.
Он выпил свою чашечку одним махом. Кофе был вкусный, если принимать за вкусовую оценку жесткую резкую горечь и непонятный острый запах. Другие пили из чашечек маленькими глоточками и, смакуя, покачивали головами. Точь-в-точь как пузатые китайские болванчики.
А после кофея все и началось. Один за другим гости выходили в центр залы и, кто громко и заунывно, словно скорбя о покойнике, а кто шепотком и с нарочитой хрипотцой, декламировали свои стихи…
По привычке, взятой нами летом,
Каждый день по саду мы бродили
И смеялись весело при этом,
Много тем ненужных находили…
Какой-то пухлый юноша, еще мальчик, пунцовея щечками, продекламировал:
Как много я мечтал, как много я хандрил,
Как много пролил слез я в жизненной юдоли…
«Ого, – подумал Иван, оглядывая паренька. – Как ему, однако, досталось в жизни. И когда только он успел горюшка-то нахлебаться… А с виду и не скажешь. Бурчук!»
Молодой мужчина с большим высоким лбом и пышными «жандармскими» усищами громко декламировал:
Адам! Адам! Приникни ближе,
Прильни ко мне, Адам! Адам!
Его слушали, затаив дыхание. Последние строки его стиха вызвали громкие рукоплескания:
Как плод сорвал я, Ева, Ева?
Как раздавить его я мог?
О, вот он, знак Святого Гнева, —
Текущий красный, красный сок…
Особенно неистовствовала худющая девица в очках. Она даже громко выкрикнула:
– Браво!
Ксения же зарделась, щеки ее возбужденно раскраснелись, и она искоса посмотрела на Ивана: понял ли он, о чем была речь. Иван понял, поскольку у него горели не только щеки, но даже уши…
О проекте
О подписке