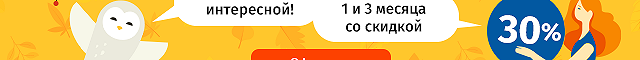
Любая провинциальная дама могла войти в дверь особняка графини де Лоран, pardon, в неглиже, а выйти не только сверху донизу одетой, обутой и напомаженной по последней парижской моде, но и причесанной в соответствии с dernier cri, ибо некий месье Жан не покладая рук трудился здесь над светлыми, рыжими и темными локонами. Да и само неглиже можно было найти здесь: и корсеты, и сорочки, и нижние юбки, и чулки, и все прочее батистовое, кисейное, шелковое и кружевное, что надевают прекрасные дамы под платья. Единственное, что непременно следовало бы принести с собою, это увесистый кошель, ибо услуги сего гнездилища соблазнов были истинно разорительны! Денег, плаченных за все эти «кружева», хватило бы на годовое довольствие иному семейству! Вдобавок дамы тут и впрямь могли окунуться в атмосферу истинно светского парижского салона; те, чей французский был, так сказать, не вполне разборчив, имели возможность его усовершенствовать; а на прелестных soirée[11] всякая дебютантка могла научиться кокетничать и флиртовать, как подобает девушке скромной, но не желающей засиживаться в девках: облетом искрометного взгляда зажигать самые холодные и самонадеянные сердца. Это ведь только купеческое сословие выбирало сыновьям невест на Софроновской площади в пору ежегодных зимних смотрин, а люди дворянского звания предпочитали присматриваться к барышням на балах. Молоденьких провинциалок французская мадам муштровала строго: спину держать прямо, веером обмахиваться, а не размахивать, ухитряться, чтобы от усталости и невыносимой духоты балов их хорошенькие личики не превращались в вакханские физиономии, туго закрученные локоны не развивались бы, платья бы не обдергивались, перчатки не промокали – и все прочее в этом же роде. Девиц учили выдержке не милостивее, чем прусский капрал учит новобранцев. Однако никто не желал сократить курс обучения. Если и сокрушались втихомолку, так лишь о том, что не удастся век танцевать только с красивым, отличавшимся изяществом манер, живостью характера и непринужденностью разговора графом Фабьеном де Лораном. Он был постоянным кавалером нижегородских дебютанток на балах своей матери; танцевал, несмотря на свою полноту, божественно; и каждая девица мечтала, чтобы заученно любезный взор галантного Фабьена при встрече с ее взглядом вспыхнул огнем нежности и страсти.
Военного чина у графа Фабьена не было, однако это не убавляло его привлекательности. Но похвалиться особым успехом не могла ни одна барышня. Он отличал всех, а значит, никого особо. Наблюдательные барышни отметили, что сдержанным и молчаливым Фабьен бывал, лишь когда танцевал с молоденькой баронессой Ангелиной Корф.
Больше всех была поражена этим она сама.
* * *
Дожив до двадцати почти годочков, Ангелина прочно усвоила одну истину: она не удалась. Родившись в богатой и знатной семье, выросшая в неге и холе, окруженная самозабвенной заботой деда с бабушкой, она всегда чувствовала – смутно, безотчетно, – что ее любят не за то, какая она есть, а за то, какой ее желают видеть. То есть как бы вовсе не ее любят! От нее столько ожидали… и, вот беда, никак ей не удавалось соответствовать этим чужим мечтам!
Машенька Грацианова на детских праздниках пребойко пела тоненьким голоском – Ангелина дичилась: пение Машеньки казалось ей смешным, – но бабушка укоризненно шепнула: «Ах, умница Машенька, а ты… экая бука!» – и этого было достаточно, чтобы раз и навсегда отбить в ней охоту петь.
«Эх, эх, бой-девка! – радостно блестя глазами, кричал дед, когда кузина Дунечка Румянцева лихо взяла первый свой барьер на английском пони. – А наша, видать, боится, что упадет!» – засмеялся он, ласково потрепав Ангелину по плечу. Она не боялась – разве что самую чуточку! – но если робость еще можно было одолеть, то ласковые насмешки – никак. Укорила матушка, глядя, как деревянную от робости Ангелину влачит по паркету учитель танцев: «Не отдави мозоль месье Фюрже!» – и с тех пор на всех танцевальных уроках Ангелина уверяла, что у нее болит нога, и даже начала ходить, слегка прихрамывая. «Ох, какие у вашей дочери волосы!» – восхищалась супруга английского атташе на приеме в русском посольстве, еще когда Ангелина жила с родителями; отец, более всего озабоченный тем, чтобы его дочка выросла примерной скромницей, прошептал, с ужасом глядя на ее буйно-кудрявую голову: «Господи, опять, поди, кудлы повылезли?!» С тех пор Ангелина полагала себя еще и самой некрасивой на всем белом свете.
Но она все же не могла не знать, что и родители, и старики за нее жизни своей не пощадят, что она воистину зеница их очей… А все ж ощущала: они скорее жалеют ее, чем любят, а уж о том, чтобы гордиться ею, – и говорить нечего!
Ее ум, сердце и тело как бы жили порознь, а душа вовсе витала в облаках, не объединяя их, не управляя ими. Только события необыденного свойства могли разбудить Ангелину от ее зачарованного сна и придать хотя бы подобие цельности ее натуре. Первое такое событие случилось на волжском берегу… Теперь над всеми потребностями Ангелины главенствовали разбуженные плотские желания, и если днем течение жизни хоть как-то отвлекало ее, то ночью от них воистину не было спасения! Особенно когда вспоминала этот задыхающийся, счастливый шепот: «Люблю тебя!..» Но и эти воспоминания не преисполнили ее уверенности в себе: какой мужчина не набросился бы на пышнотелую, разогретую солнцем… А выдохнул он это признание из благодарности или из жалости к девчонке, столь щедро расточившей свое достояние. Жалость – это чувство Ангелина ненавидела сызмальства, а оттого, пожалуй, и сама не знала жалости к себе. Она умела только стесняться себя, даже имени своего, которое было слишком тяжеловесным: Ангелина. От Фабьена она впервые услышала прелестное французское – Анжель – и впервые поняла, каким чарующим, жемчужным именем наградили ее родители. И уж если в галантности Фабьена можно было заподозрить лишь отменное воспитание, то уж матушка его встретила ее с воистину материнской восторженной любовью. Все в Ангелине вызывало ее одобрение. «Рыжая!» – презрительно отзывались институтские барышни о золотисто-русых пышных кудрях Ангелины. «Petite rousse», – ласково называла ее графиня де Лоран. Когда какие-то па модной мазурки не удавались Ангелине или у нее кружилась от вальса голова, графиня говорила, что всем этим европейским жеманным танцам далеко до русской пляски, которая вполне удается Ангелине. Медлительная, вялая, она заслужила у подружек презрительную кличку «рыбья кровь», в доме же на Варварке ее ласково звали «La petite siréne», русалочка. Ангелина жаждала томной бледности лица, но ничем невозможно было согнать по-деревенски здоровый румянец с ее пухлых щечек – а графиня восхищалась им, сравнивала по цвету с самыми лучшими прованскими розами, воспетыми трубадурами. И Ангелине, дочери барона, внучке князя, было ничуть не зазорно выслушивать ласковые поощрения от французской эмигрантки, ибо всяк, кто был зван в ее личные покои и принят по-семейному, не осмелился бы называть иначе чем графинею эту полную достоинства, далеко не старую даму, которая погибшие на ее лице розы и лилии весьма ловко заменяла искусственными. Графиня имела характер, которому скука неведома, а значит, она была неведома и ее гостям, согласным даже терпеть ее любимых левреток, которые кусали за ноги входящих, и вкушать не по-русски необильную, изысканную пищу, проигрывать в ломбер хозяйке, которая до карт была большая охотница, – все терпеть, лишь бы вновь насладиться обаянием этого «полуденного цветка, в варварскую страну занесенного», как без ложной скромности называла себя графиня. Ангелине казалось, что мадам де Лоран с ее умом, богатством и умением держать себя должно быть невыносимым провинциальное общество, которое осаждало ее салон: противные дамы, которые так и ели глазами хозяйку, пытаясь перенять ее ужимки; их мужья, которые, подобно холостякам, пожирали хозяйку нескромными взорами; молодые люди с неуклюжими манерами, топорной речью и в вышедших из моды туалетах. Людей все учит: и скука, и досуг. И Ангелина, бывая у графини, даже начинала стыдиться своих соотечественников.
Людей общества в Нижнем Новгороде между тем поприбавилось. Уехав из Москвы от неудержимо подступающего к столице неприятеля, в Нижнем поселились самые знатные семьи московской аристократии. Тихий и скромный городок взбудоражился! Москвичи привезли с собой капиталы, привычку к шумной, рассеянной жизни, последние моды и крупную карточную игру.
Начались непрерывные праздники и балы у гостеприимного вице-губернатора Крюкова, в богатых домах. Но не только это вынужденное веселье привезено было из Москвы: с приездом людей, ощутивших, хотя бы издалека, веяние наступающей войны, умножились разговоры о ней и в Нижнем.
Здесь уже были, конечно, приняты разные меры, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу: на окраинах города рылись канавы и спешно вколачивались в землю сошки с перекладинами, на которых раскладывались колья и рогатины; вокруг селений воздвигались заборы с заставами и сторожами в шалашах; устанавливались взятые у богатых помещиков старинные чугунные пушки, употреблявшиеся для салютов в семейные праздники; собиралось ополчение… Да, принимались меры, но до чего же все нижегородцы были бы несчастны, когда бы пришлось этими мерами воспользоваться!
16 июня оставили Вильно. 20-го потеряли Минск. Багратион отступал к Смоленску.
Мысли устремлены были у всех на берега Двины, где шаг за шагом оттеснялись неприятелем русские войска, хотя никто не сомневался: армия наша желает наступать! Однако приказы главнокомандующего Барклая-де-Толли носили иной характер: выравнивать фронт, беречь силы, вести позиционные бои.
– Барклай-де-Толли? Болтай, да и только! – честил его старый князь Измайлов. – Позиционная война невыгодна, потому что всякую позицию можно обойти. Побьют врагов под Смоленском – все могут оставаться спокойными. Бонапарте должен будет тогда помышлять о собственной безопасности. Если же прорвутся злодеи далее, то беспокоиться нам придется уже о целости и существовании нашего государства!
В эти дни на Ангелину дома мало обращали внимания: Алексей Михайлович уже порывался записаться в дворянское ополчение, а когда жена сказала веско: «Только через мой труп!» – вскричал почти с ненавистью: «Я видел стариков, которые умирают костенея. Ты что же, мне такой участи желаешь?! Я жизнь в бою провел – дай же и смерть там сыскать!» Княгиня всерьез опасалась, что муж, как мальчишка, просто-напросто сбежит из дому, и ей было ни до чего, даже не до внучки, так что та невольно тянулась туда, где ей всегда были рады: к графине де Лоран… И к Фабьену.
* * *
Теперь во многих домах в Нижнем стало тесновато от переизбытка приезжих. Не стал исключением и дом на Варварке. Ведь в город прибыли не только русские, бежавшие от войны: московский губернатор Ростопчин выслал из старой столицы всех французов, подозреваемых в сношениях с Наполеоном, и отправил их в Нижний на барке. Здесь эти люди оказались воистину в положении немцев, немых: народ был так раздражен, что чужие не осмеливались говорить на улице по-французски… Да что! На любом иностранном языке! Германского торговца чуть не побили камнями, приняв за француза. Двух русских офицеров чуть не арестовали: они на улице вздумали говорить по-французски; народ принял их за переодетых шпионов и хотел поколотить.
Когда бы ни пришла Ангелина в дом графини, она непременно натыкалась на очередного дрожащего от страха незнакомца. А как-то раз, явившись без доклада, застала графиню с охапкой окровавленных, дурно пахнущих бинтов, а из-за двери слышались стоны. Мадам Жизель неприязненно сказала, что уроков нынче не будет, потому что у нее в доме умирает доктор Тоте, которого Ростопчин в Москве заклеймил как французского шпиона, а нижегородский вице-губернатор Крюков велел наказать его на конной площади тридцатью ударами плетей и, окровавленного, бросить на четыре дня в тюремный карцер. Никакого ухода за его израненной спиной не было, а когда раны стали дурно пахнуть, Тоте вышибли из тюрьмы, и он чудом добрался до своей сердобольной соотечественницы…
Ангелина едва не зарыдала от ужаса и жалости к несчастному!
– Ох, за что, за что его так?! – вопрошала она, но мадам де Лоран ушла, унося бинты, холодно буркнув: «За то, что француз!»
Ангелина зажмурилась, не решаясь больше спрашивать. Пусть Тоте принадлежал к враждебной нации, но ведь не он жег русские села, не он стрелял в русских солдат! Впервые в жизни ей стало стыдно за то, что она русская! С этим чувством стыда она и ушла… А жаль все-таки, что ей не удалось вызнать причину столь жестокого наказания Тоте! Ведь графиня не могла не знать, что доктор-француз подвергся суровой каре за пророчества, что уже 15 августа (через полтора месяца!) Наполеон будет обедать в Москве…
О проекте
О подписке