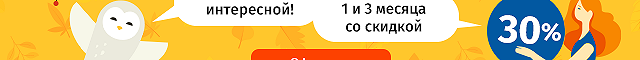
– Ну а теперь слушай, что расскажу тебе. Давным-давно жил на свете травознай. С малолетства прислушивался он к шепоту трав и говору листьев. Целые дни бродил по полям лесам и лугам, внимая голосам Матери-сырой земли. Все ее тайны были явны ему, стал он всеведущим волховитом-зелейщиком. Весть о его силе быстрее ветра пролетела по Руси, съезжались к нему болящие, и никому не было отказа в совете. И всегда шла рядом с ним удача, потому что пускал он в дело лишь добрые травы, созданные на пользу страждущему люду. Дошла молва о нем и до врага рода человеческого. Взяла того зависть, стал он напускать по ветру злые слова, нашептывать черные желания, навевать страшные мысли доброму травознаю. «В твоих руках могущество, какого нет ни у кого на свете, – вел он обольстительные речи. – Стоит тебе захотеть, и все люди, со всем богатством, будут в твоей власти!» Но не прельщают посулы зелейщика, по-прежнему чинит он лишь добро людям, целит их болести. А дьявол стоит на своем, и покою нет от него: то обернется кустом, то переползет дорогу змеей, то вещим вороном закаркает – и все про то же речь ведет. Вселился он в образ человеческий, и человек тот денно-нощно донимает ведуна. Годы шли меж тем, начал стариться добрый травознай, и с каждым седым волосом слабел дух его. «Жизнь прожита, а что нажито? Из спасиба шубы не сошьешь! – шепчет ему искуситель устами человеческими. – Хочешь, научу тебя, как воротить молодость? Покорись – и не будешь страшиться смерти!» Сделали-таки злое дело эти речи! Продал старец свою светлую душу черному духу. Воротилась к нему прежняя сила, и молодость началась сызнова, но теперь он, кроме добрых, Богом посеянных трав, распознавал и злые, разбросанные по ветру рукой недоброю. Стал волховит не одну подмогу оказывать людям, но и пагубу… И когда вновь завершился круг его жизни и предстал он пред Божьим престолом, повелел ему Господь на землю вернуться и нести свой грех до той поры, пока добро его не переполнит чашу и не перетянет она чаши зла. Суров Бог, да! И суровее всего спрашивает он с тех, кто обласкан был его милостями. Иной-то всю свою жизнь лиходействует, и нет ему за то кары никакой, словно отвратительно Господу и пальцем до него дотронуться. Но если да ежели праведник собьется с пути истинного, отдаст душу в залог злу – не будет конца Божьей немилости…
Михайла перевел дыхание и заговорил снова:
– Знай же, Егорушка, что сказание это – обо мне. Всегда рядом и спутник извечный мой, устами коего искусил и искушает меня дьявол. Ерёма! И страшное мне волею Божией определено условие: не творить добра, коли причинит оно хоть самомалейшее зло. Связаны руки мои. Поди-ка друга защити, коль это ворогу пагубу окажет!.. Скован я – оттого и воет душа моя волком. Не пугайся, что ж – зверье порыскучее тоже Божье стадо. Живу с людьми – их язык знаю, с волками по ночам бегаю – их речь знакома мне.
Он вонзил в пень острый нож, выхватил из-за пазухи пучок горько пахнущей травы.
– Смотри! – воскликнул, срывая рубаху. – Это Тирлич-трава, зелье оборотней!
Натерся Михаила травой, перекинулся через пень – и перед Егором очутился Белый Волк. Глянул горящими глазами – и сгинул в чаще лесной, лишь белым ветром меж дерев повеяло.
Недовольно заухал на чердаке филин, но ничего не поделаешь – полетел догонять хозяина. Застонало, захохотало вокруг, вышел и Лешенька почесал спину о покляпую березу, ринулся велел за колдуном – неживую душеньку потещить, тоску вековечную избыть… И сквозь ветра шум и волчий вой донеслись до Егора слова заговорные, словно бы песня горестная:
– На море на Окияне, на острове Буяне, на полой поляне светит месяц на осиновый пень, в зелен лес, в широкий дол. Около пня ходит волк мохнатый, в зубах у него весь скот рогатый, а в лес волк не заходит, а в дол волк не забродит. Месяц-месяц, золотые рожки! Расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя, человека и гада, чтоб они серого волка не брали, теплой бы с него шкуры не драли. Слово мое крепко, крепче сна и силы богатырской!..
* * *
Вот и май со своей маетой миновал, июнь подошел. И русалок встретили, и Троицу проводили, и в Семик кумились, и в Духов день землю слушали: не окажет ли она, матушка, милость, не подскажет ли, где клад зарыт? Но нет уж, на роду написано мужику клад вековечно на своем поле искать: рыть его – не перерыть, копать – не перекопать. Что мужику, что коньку его доброму работы невпроворот. Хоть и говорят, что счастье не лошадь, не везет по прямой дорожке, не слушается вожжей, а и без лошади крестьянину счастья нет. Не зря же первейшая мольба мужицкая: «Помилуй, Господи, коня и меня!» А как падет конь в страдную пору… ну, и разве что по сыну громче вопила бы, слезами исхода баба:
– Родненький ты наш, родименький Бурочко!l На кого ты, кормилец, нас покинул? Ой, то-то мы, горькие, станем делать! Кто-то нам пашеньку запашет? Кто полосоньку взборонует? Ты по пашеньке соху водил легче перышка, бороздочки боронил глубокие, побежишь – не угнаться ветру буйному! Встань, подымись! Напою тебя ключевой водой, присолю тебе ржаную корочку. Заплету тебе гриву косичками, все бока твои крутые вычищу! Встань, верный друг! Седелышко по тебе тоскует, соха по тебе кручинится.
Бьется баба, вопит. Стоит мужик рядом, усы, от слез соленые, кусает. Разве только на поле помощник добрый конь? Исстари ведомо: сними хомут с потной лошади, надень на человека, которого лихоманка бьет, – и хворь как рукой снимет! Даже череп конский страшен для темной силы, недаром в деревнях их на тын вздевают. Друг-слуга пахаря и по смерти ему верно служит!
Так-то оно так, а едва подумает мужик, что лишь череп коня ему теперь подмога, и не сдержит сердца, упрек бросит знахарю:
– Э-эх, распросукин ты сын! А еще, бают, человек бывалый, из семи печей хлеб едал – не морщился! Что же ты не исцелил кормильца? Мало я тебе даров передарил? Спрячь свои бесстыжие глаза, не то вгоню их единым ударом в твою черепушку!
Опустил глаза Ерема, переморщился. Ладно, ори, орясина! Поглядим, что дальше станешь делать…
– Не меня вини, Митреюшко, – молвил тихо да смиренно. – Все силы свои отдал, все слова заговорные перебрал.
– Да что толку?!
Замотал головой Ерема:
– Знать, напущено на нас!
Страшные слова! Напустить и поветрие модно, и стрелы, и самую моровую язву, оспу-златеницу, всякую другую лихую болесть. А Ерема все плетет из слов тенетник:
– Куроклик я слышал, куроклик! Беда, коль курица петухом поет. Чую напасть неминучую, пролетит над Семижоновкой вскорости птица Юстрица!
Непонятное во сто крат сильней страшит.
– Юстрица?! – заробел мужик, а Ерема так и бьет словами:
На море на Окияне,
На острове на Буяне
Сидит птица-Юстрица.
Она хвалится-выхваляется,
Что все видала,
Всего много едала:
И царя в Москве,
Короля в Литве,
Старца в келье,
Дитя в колыбели…
– Смерть… – догадался мужик, а Ерема кивнул:
– Смерть! Была, ох была беда, мимо проходила, упредить упредила, да не вняли мы!
– Чему не вняли? – разинул мужик рот да глаза, а Ереме лишь того и надобно:
– Припомни-ка, Митреюшко, что содеялось с Никифором да Степанидой, соседями твоими?
– Известное дело! – хмыкнул Митрей. – Огненный Змей к Степаниде наведался, с чего и родила она черненькую кикимору.
– Так, так, – кивает Ерема. – А припомни свадебку их…
Митрей собрал кожу на лбу складками, но, сколь ни тужился, ничего более вспомнить не мог.
– А волчье сердце помнишь? – вкрадчиво подсказал Ерема.
– Какое сердце, прости меня Господи?!
– То самое, что молодым поперек пути бросили!
Не помнил Митрей никакого сердца, какое бросали бы под ноги Никифору со Степанидой, чтобы навлечь на них беду, но тут подскочила Ненила, бабенка лукавая, и на язык и на действо лихая, из тех, о ком говорят: «Лукавую жену в ступе не утолчешь!»
– А я помню, помню! – затараторила она. – Иссуши меня Господь, как маковое зернышко, ежели вру. Напущено было на них!
Напущено… опять это проклятое слово. Митрей содрогнулся:
– Кто ж Лиходей этот?
– Не иначе угорь-рыба ему подвластна, – нарочно уходит от ответа Ерема. – На утренней зорьке выметнется она на берег и ходит-перескакивает по росе версты на три. Смывает-сбрасывает с себя все свои лихие болести на пагубу человеку. Хитер угорь-змей водяной, злобен. На жало ему запрет наложен на веки вечные за великие прегрешения, но попади отравленная им роса на человека или коня…
– A-a! – взревел Митрей, и Ерема мысленно перекрестился: «Ну наконец-то дошло до тебя!» – Извели коня?! Лопни мои глаза, развались утроба на десять частей, если не извели!
Пожал плечами знахарь, устремил вдаль загадочный взор… заметил это Митрей, сгреб Ерему за ворот:
– Говори, что знаешь!
– Что, что… – высвободился быстроглазый Ерема. – Сам примечай. Не выл ли твой пес накануне, не рыл землю возле конюшни? Жался ли пес к тебе, Митрей, в глаза заглядывал? Может, лаял он на конька с непривычной злобой?
– Было, было! С места не встать, света белого не видать! – ретиво подтвердила Ненила, и Митрей тоже кивнул.
– Стало, по первой примете, чуял пес вскорости покойника, по второй – несчастье пророчил, по третьей – указывал, чьи дни сочтены.
– Как же это, Еремушка? Пес ведал про скорую беду, а ты нет? Или пес знатки[3] прозорливее? – завела Ненила плаксиво, да Ерема цыкнул на нее:
– Будь виновником человек лихой, я б его сразу распознал, раньше всякой собаки! А тут… Кто псу первый недруг?
Задумался Митрей. Кто же? Кошка? Но Ненила уже сообразила: 1.
– Волк!
Заскреб в затылке Митрей: I
– Нет, Ерема, это уж ты хватил! Неужто волк на моего Бурка лихую болесть напустил? Такое только в сказках бывает!
Ничего не ответил Ерема. Прижмурил черные быстрые глаза свои и завел будто бы под нос, словно и не заботясь, слышит его кто или нет:
– Завяжи, Господи, уста и язык колдуну и колдунье, ведуну и ведунье, упырю и волкодлаку, чтоб на честной народ зла не мыслили…
– Какие еще колдуны и колдуньи, упыри и волкодлаки? – заворчал было Митрей, но приметливая Ненила уже поймала взор ушлого знахаря, а был взор тот недобрый устремлен в сторону леса частого…
* * *
С утра Михаила топил баньку. Ровные, сухие полешки, прогорев, легли горкой жарких углей, и воздух в баньке стал обжигающе крепок, потому что на пол не поленился Михаила набросать мягких сосновых веток, липового цвета, душицы, мяты. И в жару, в пьянящем пару, под плеск то кипящей, то студеной воды, под обжигающим хлестом веника, который колдун связал из липы и дуба, березы и можжевельника, тело свое утратил Егор, растворилось оно в облаках пара, а душа реяла в грезах невнятных, но сладостных…
Однако окончилось блаженство. Егор оболокся чистыми белыми одеждами, причесал влажные, чуть ли не до плеч отросшие кудри свои белые и вслед за Михайлой, тоже переодевшимся, непривычно суровым, ступил в лесную чащу.
За дни и месяцы, проведенные у колдуна, Егор уже свыкся немного с лесом, с великанами, что денно и нощно шептались о тайнах своих. Однако ему казалось, что в той жизни его, которую он не мог вспомнить, не было такого чуда! А нынче Михаила обещал открыть ему еще новый мир – мир трав, потому что настала ночь на Ивана Купалу.
Лишь вошли они в лесную черноту, как голоса деревьев оглушили Егора. Луна плясала меж листьев. Звезды реяли в небе, а деревья слаженно пели о ночи, о соках земли, о ветвях, которые тянутся коснуться других деревьев, приклонить к ним вершины свои. Мерцало и мелькало за стволами, словно кто-то еще стремился вместе с Михайлой и Егором к заветным полянам, и, присмотревшись, узнал Егор Лешего рядом с которым мелькали белые тела зеленовласых дев, и волки были тут как тут, но не звали они Михаилу, а только изредка зажигали огни быстрых, внимательных взоров.
Почуяв, когда притомились колдун и его спутник, деревья вдруг подхватили их на гибкие плечи свои и ринулись вскачь. Запахло сырой, глубокой землей, и влагой подземных рек, и светом луны, прильнувшей к стволам и листьям, и лежал Егор в объятиях ветвей, и так-то легко было ему да легко!.. Но вскоре колдун и Егор простились с деревьями, которые, похоже, притомились с непривычки, и вот уже лес раздвинулся, расступился и пропустил их на широкую поляну, где в высокой траве играли разноцветные светляки, а ветер дразнил их, и травы сплетались, словно косы той девицы, что наведывалась к Михаиле…
– Земля сотворена, как человек, вместо власов былие имеет.
То ли колдун произнес эти слова, почуяв мысли своего приемного сына, то ли сама Мать-сыра земля?
– Егорушка, пришел заветный час! Открою и передам я тебе все тайны свои. Назову имена и чудесные свойства трав, станешь ты волховитом-зелейщиком, и пусть эта стезя будет твоей на веки вечные. Промысел Господний неведом мне, но чую – близка моя встреча с Богом. Не ведаю, ждет меня кара или прощение, как произойдет встреча, по добру или по злобе людской. Но участь свою смиренно приму, с благодарностью, что ниспослан ты, дитя души моей, нечаянный гость. Помни, Егорушка: в каждой травинке великая сила Матери-земли. Есть благодеянные – есть и лютые коренья, лихие травы. Воистину трава чудодейная! Озелить[4], уморить ею можно – можно и к жизни вернуть. Поможет тебе и вещьба, но помни: сказать заговорное слово надо умеючи. Душу в него вложишь, тогда услышат тебя и трава, и лихоманка, и человек. Бойся, сынок, тех, кто со слова вещего злато-серебро выдаивает. Не всякому видно, однако из тех уст змеи падают да скакухи[5] -холоднянки! Ну а теперь поклонись в пояс травушке, шелковой муравушке, смотри да примечай, слушай да запоминай. Мать сыра земля! Благослови травы рвать, твои плоды брать!
Словно бы прохладное прикосновение ощутил Егор на влажном от усталости и волнения лбу своем. То было прикосновение вещей тревоги. Слух уловил чей-то громкий шепот, шелест и пение. Да это голос трав! И еще раньше, чем произносил что-то колдун, Егор успевал узнать это от самих трав, которые наперебой навевали ему свои извечные песни… Видел он каждую от корешка до вершиночки, слышал, как соки земные бродят в самой малой былиночке. А колдун кружил по поляне и, чудилось, тоже пел песнь – чудесную, диковинную, бесконечную:
– Есть на свете Плакун-трава. Она всем травам мати. Когда вели Христа на распятье, плакала Божья Матерь по своему по сыну по возлюбленному, пала слеза ее на сыру землю, и от тех слез пречистых зарождалась Плакун-трава. Плакун, Плакун! Не катись твоя слеза по чистому полю, не разносись твой стон по синему морю! Будь ты страшен злым бесам, полубесам, старым ведьмам киевским! А не дадут тебе покорища, утопи их в слезах, а убегут от твоего позорища, замкни их в ямы преисподние. Будь мое слово при тебе твердо и крепко век веков!
Без твоего корня, Плакун, голыми руками выкопанного, не добудешь и Разрыв-травы, у кого есть Разрыв-трава, нипочем тому все замки и запоры, разрывается на мелкие кусочки от одного его прикосновения и железо, и злато, и серебро, и ярая медь. Разрушает трава и те двери железные, за которыми схоронены клады разбойничьи. Разрежь палец, заживи в порез траву заветную – станет волшебным твое прикосновение. Ох и бережет Разрыв-траву сила нечистая! Но положи Плакун за пазуху, возьми косу да иди в полночь на поляну дикую. Как переломится коса, тут где-то и Разрыв-трава. Собери зелень скошенную, брось в ручей: вся она по воде поплывет, а ту, что против течения подымется, бери скорей!
Иванова ночь… сколь красна цветами ты, сколь волшебна былием! Не найти в иное время травы такой ни днем с огнем, ни вечером с лучинушкой.
Не любит кто тебя – дай испить Одоен-травы, не сможет от тебя до смерти отстать! Кто Измодин-траву ест, тот жить долго будет, никакая скорбь не тронет ни сердца его, ни тела. Хочешь, чтобы дом был сохранен от грозы и пожаров, – сорви Прострел-траву, в подполе держи. Она от порчи избавит, скотину от хворости сохранит. Возьми из Перенос-травы ее сердечко, войди в воду – вода расступится, и пойдешь ты по морю, будто по суху.
Склонись к лесной болотине, сорви белую Одолень-траву. Обережет она путника от всяког зла-лиходейства. Зашей ее в ладанку, повесь на тельник[6] да не забудь заговорным словом отчитаться: «Еду я из поля в поле, в зеленые луга, в дальние места, по утренним и вечерним зорям, умываюсь медяною росою, утираюсь солнцем, облекаюсь облаками, подпоясываюсь частыми звездами. Во чистом поле растет Одолень-трава. Одолень-трава! Не я тебя породил, не я поли-дад – породила тебя Мать сыра земля, поливали тебя девки простоволосые да бабы самокрутки. Одолень-трава! Одолей мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки и колоды. Спрячу я тебя, Одолень-трава, у ретивого сердца, во всем пути и во всей дороженьке…»
Голос колдуна становился все тише, шепот трав все громче.
Наконец Егор поднял отуманенную голову.
Он был один в лесной чаще.
– Купала на Ивана!
Купала на Ивана!
Купался Иван
Да в воду упал!..
Взвился совсем рядом девичий голос, эхом отозвался переливчатый клик:
– Иван да Марья
В реке купались.
Где Иван купался,
Берег колыхался,
Где Марья купалась,
Трава расстилалась!
Обуяло любопытство Егора, пошел он на голоса.
Под серебряно-светлым небом, под белой луной горели на широкой поляне яркие костры. В средний воткнут шест с пылающим колесом на вершине – будто солнце там прикручено! Вокруг толпились парни да девки: все красно разодетые, в венках из любистка и яркого мака, иные в травяных поясах, иные с охапками цветов. Вьются по ветру косы девичьи, подолы разноцветные: прыгают пары через костер. Что смеху, что крику! Подбежали девки, бросили в костер сноп крапивы – зачуранье от ведьм. Искры взвились столбом, улетели в дальние выси. Не звезды ли вплелись в венки? Не солнце ли пробилось сквозь ночную темь и распалило взоры? Или это жар купальского костра разогрел, раззадорил сердца?
Смотрел Егор жадно на это огневое веселье, как вдруг рядом кто-то вскрикнул:
– Ой, подруженьки! Ярило[7]!
Обернулся Егор. В белом, как молоко, лесу стоят пред ним три девицы-красавицы. Схватились за руки, глаз с него не спускают, щебечут-перекликаются:
– Он, он!
– Яр-Хмель!
– Ясней-красней Светлояр любого раскрасавца…
– Кудри русые, одежа белая, глаза неба полуденного ясней. Так и светятся! Ой, девоньки…
– Подруженьки! Не могу…
– Боязно, девки! Бежим, пока не поздно. А ну как подойдет он к нам?
– Чего ты испугалась? Добр, ласков Ярилушка: где ступит, хлеб там взойдет, куда глянет лучами-очами, там лазоревые цветики цветут.
– Или не знаете, что он взорами сердца на любовь возжигает? Заноет ретивое, сон убежит руки захотят милого обнять, губы заболят желанного зацеловать. Долго ль до греха?
Егор стоял неподвижно. Страх… и радость смутная. Чего надобно жаркооким девицам? Может, пока не поздно, в бег удариться? Да разве отведешь взор!
Девицы тоже притихли. Так и стояли все четверо, обжигая друг дружку взглядами. И вдруг одна чуть слышно завела:
– По лесам, по лесам, я по лесам ходила,
Все цветы, все цветы, все цветы видала.
Одного, одного, одного цвета нет как нет.
Нет цвета, нет цвета, нет цвета алого,
Алого, алого, самого цвета любимого…
Она подходила ближе и ближе. У Егора дыхание перехватило. Косы ее блестели, как два лунных луча.
– Аль его, аль его красным солнышком выпекло?
Аль его, аль его частым дождичком вымыло?
Аль его, аль его красны девушки сорвали?
Сорвали, сорвали, в быстру реку бросили?..
О проекте
О подписке
