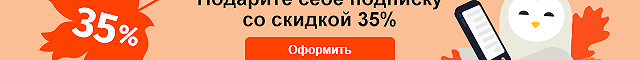
Глава 7. Где Дориан Дарроу оказывается в безвыходном положении, испытывает муки совести и ничего не делает
Он появился в мастерской без приглашения. Тяжелые шаги я услышал задолго до того, как открылась дверь, и встретил незваного гостя со шпагой в руке, хотя не имел ни малейшего желания продолжать ссору.
– Не дергайся, – сказал Персиваль, поднимая руки в знак того, что пришел с миром. – Я поговорить. И это…
Он ущипнул себя за ухо и, тяжко вздохнув, предложил.
– Выпьем?
Персиваль извлек из кармана плоскую флягу. А заодно поспешил заверить:
– Травить не стану.
– Тогда сочту за честь…
В ящике со стеклом нашлись и стаканы, пусть и не предназначенные для потребления алкогольных напитков, однако в данный момент я счел за лучшее не акцентировать внимание на деталях. Персиваль зубами открутил крышку, разлил напиток – при некоторой доле условности его можно было назвать виски – и сказал:
– Я это… извиниться хотел. За это… за то, что там… – ткнув пальцем вверх, он замолчал.
Что ж, подобный жест мира заслуживал ответного.
– В таком случае и вы примите мои извинения за сегодняшний инцидент. Я проявил излишнюю горячность, и уж точно не в праве был использовать оружие…
Персиваль залпом осушил стакан. Мне не осталось ничего, кроме как последовать примеру. Виски был отвратителен. Точнее, виски там и не пахло.
– Гадость, – не удержался я. И Персиваль к великому удивлению согласился:
– Точно. Гадость. Это ты, сэр, правильно сказал. И хорошо, что сказал, потому что теперь и я скажу. Ну, чтоб между нами все ясно было.
Он снова наполнил стаканы и велел:
– Пей, сэр. Съехать думаешь? Или что я съеду?
– Пожалуй, разумнее будет, если я найду другую квартиру. Но боюсь, это займет некоторое время. И опять же для начала необходимо разрешить финансовый вопрос, поскольку…
Персиваль слушал, кивал, а после, бесцеремонно положив руку на плечо, сказал:
– Никуда ты, сучья душа, не съедешь. Понятно?
Нет. Совершенно. Хватка у человека-гориллы оказалась мертвой. А рука – тяжелой. Думаю, он нарочно давил на плечо, желая продемонстрировать силу. Примитивен и опасен.
– А если не понятно, то сейчас я тебе объясню… – Персиваль отобрал стакан, перелив его содержимое в свой. – Раз уж мне, урод клыкавый, выпало жить бок о бок с тобой, то я лучше буду жить мирно.
Разумный подход, хотя вариант со сменой места жительства все же был мне более симпатичен.
– Ты не мозолишь глаза мне, я – тебе. Тетушкам говорим, что все у нас славно и ладно. Идет?
– Нет. Я все же полагаю, что нам следует…
Похоже, подобного ответа ждали. Вторая рука легла на горло, и Персиваль пообещал:
– Если ты, сэр, кочервяжится станешь, то я твою бошку прямо туточки и откручу.
Ну, допустим, это у него вряд ли выйдет…
– Послушай, я люблю тетушек. Только их и люблю. А они хотят, чтобы ты жил тут. Значит, ты или будешь жить тут, или жить не будешь. Ясно?
Оттолкнув меня, он торопливо вытер руки о мундир. Кажется, Персиваль полагал нашу беседу законченной, но ошибался.
– У них нет денег, верно?
На всякий случай я отступил так, чтобы между мной и излишне эмоциональным племянником миссис Мэгги оказался один из ящиков, достаточно высокий и массивный, чтобы его было нелегко сдвинуть с места.
– Чего?
Он двинулся было на меня, но остановился.
– Деньги. Те, которые мой поверенный уплатил за аренду. Они ведь потрачены?
Пожалуй, не следовало его злить, но удержаться я не мог. Или виной всему был выпитый самогон?
– Смею предположить, что леди потратили их на вас, именно поэтому вы, мистер Персиваль, чувствуете себя виноватым.
Он всхрапнул и, подобравшись, приподнял кулаки.
– Что они сделали? Купили вам еще одно место? Чин? Вложились в сомнительное предприятие, желая обеспечить вам доход в будущем?
По тому, как Персиваль зарычал, я понял: в точку.
– А на что они рассчитывали? Уж не на то ли, что в ближайшие год-два вы будете слишком заняты, чтобы нанести визит? Где вы должны были находиться? В колониях? Африка? Индия? Точно, Индия. Страна огромных возможностей. Ваше назначение туда обошлось недешево, но…
– Заткнись, – попросил Персиваль.
– Вас заставили выйти в отставку. Не по возрасту. Не по состоянию здоровья. Тогда в чем дело? Характер? Склонность к пьянству? Пренебрежение обязанностями?
– Не твое собачье дело!
Увы, здесь он ошибался.
– Тебя не вышвырнули с позором, как могли бы. Тебе дали принять решение самому. Ты думал, что принимаешь, но на самом деле это иллюзия.
Шаг. Второй. Кулаки Персиваля упираются в крышку ящика. Доски трещат под нажимом, но держат.
– Ты был так зол и так напуган, что сбежал. И конечно, не позаботился о том, чтобы сохранить жалование или вложить его во что-нибудь стоящее. Что ты сделал? Пропил? Спустил в борделе? Проиграл? Какая разница, правда? Денег нет. Ничего нет.
Удар. Щепа брызжет. Но за этой показной злостью я вижу истинное лицо Персиваля. Оно – отражение в зеркале. В том самом зеркале, которое осталось в Хантер-Холле. Я уже перестал бояться его.
– Да ни хренища ты не знаешь!
Ошибается. Знаю.
– Итак, ты в очередной раз испоганил себе жизнь и вернулся в единственное, полагаю, место, где тебя, несмотря ни на что, любят. Вернулся ты еще за одним шансом и в пути неоднократно клялся, что этот-то не упустишь. Упустишь. И найдешь сотню причин, себя оправдывающих.
Ангел прощенный, что я такое говорю? В чем виноват этот человек? Уж не в том ли, что слишком похож на меня? Я глядел на его жизнь, о которой не знал ничего, а видел свою собственную, прошлую и будущую. Отвратительно.
– Да, я могу расторгнуть договор и потребовать деньги. Да, это поставит и тебя, и этих милых леди в крайне неловкое положение. При самом худшем раскладе дело дойдет до суда и… это не тот случай, когда угрозы помогают.
– Неужели?
– Я тебя не боюсь.
Потому что тебя нет. Ты – отражение. Кукла из Зазеркалья, ожившая и объявившаяся здесь, чтобы мучить меня. Ты будущее, которого не должно быть. И в этом поединке взглядов я буду победителем.
Так и вышло.
– Ублюдок ты, – сказал Персиваль, пятясь к выходу из мастерской. – Сукин сын и ублюдок.
– К вашим услугам.
Когда дверь за ним закрылась, я без сил опустился на пол. Плечо ныло. Совесть тоже. Надо будет извиниться. Завтра же. Или сегодня. Персиваль ведь не виноват, что я такой.
Никто не виноват, что я такой.
Остаток ночи я провел в мастерской. Дважды заглядывала мисс Пэгги. Я уверил ее, что инцидент исчерпан, и мы с милейшим Персивалем с этого часа стали если не друзьями, то уж во всяком случае, добрыми приятелями. Увы, на сей раз ложь во спасение не стала правдой, я читал в глазах добрейшей леди и упрек, и обиду, и надежду, что все еще изменится.
– Он очень хороший человек, – уходя, сказала она. – Вот увидите.
Что ж, возможно и такое.
Наверное, мне следовало подняться в гостиную, что-то сказать или сделать, вернув этому дому прежний покой, и я бы так и поступил, если бы знал, что именно говорить или делать. И поэтому, поддавшись слабости, не делал ничего.
Я остался в мастерской и, вытащив из связки заветную черную тубу, раскатал чертеж прямо поверх ящика, придавив по углам гайками. Наклонившись, я вдохнул аромат старой бумаги и графита, провел ладонями по чуть отсыревшей, мягкой поверхности, выравнивая.
А потом забравшись на соседний ящик, сидел, глядя на это чудо чистой механики, и мечтал, как однажды…
Хотелось верить, что Джакомелли моя идея понравилось бы.
Глава 8. В которой леди Эмили нюхает розы, читает газету и падает в обморок, что приводит к некоторым непредвиденным последствиям
Особняк оживал. Медленно, но верно, он стряхивал былое оцепенение, обрастая запахами, звуками и суетой, обычной для всех домов, в которые возвращались хозяева.
Первым перемены испытал на себе сад. Захрустели, ломаясь, ветки, брызнул из свежих ран прозрачный сок, смешался с землею. Следом легла под лезвием косы трава, и защелкали ножницы, усмиряя буйную гриву кустарника. Запахло подвяленной травой и цветами, каковые высаживали в великом множестве. Меж кустами роз пролегли новые дорожки, а по обочинам их распустились редкие бутоны газовых фонарей.
Вместе с садом менялся и дом: за день или за два засияли по-новому стены, и трещины утонули в меловой белизне, как тонут в дымке пудры года. Исчезли пыль, пауки и крысы – последних по указанию мисс Эмили травили с особым тщанием, даже крысолова с флейтой приглашали. Он выволок из подвала мешок, в котором служанки насчитали три дюжины серых, поломанных трупиков.
Второй очередью появились столяры и маляры, плотники и прочий рабочий люд. Эти заполонили дом вонью красок и камфоры, хриплыми голосами, бранью и нудными песнями, от которых ломило в висках и тянуло в сон.
Слуги судачили, примеряясь к переменам. Доброхоты считали деньги, потраченные, как полагали, зазря. Леди Эмили терпела неудобства.
Но вот настал день, когда полностью помолодевший, словно бы ставший выше и изящнее, особняк раскрыл свои двери для посетителей. Впрочем, последних было не так и много, что несколько огорчало мисс Эмили, внушая престранное беспокойство и желание отправиться… куда-нибудь.
И золотая цапля, с которой Эмили теперь не расставалась, подталкивала к действию. Нужно было что-то делать.
Но что?
– Эмили, ты только послушай, какой ужас! – тетушка Беата выглянула из-за серого листа газеты. И охота ей читать? У самой Эмили в последнее время от чтения жутко начинала болеть голова. – «Невероятное происшествие на Хайгейтском кладбище…».
А розы ничем не пахнут.
Странно как. Вчера только тетушка жаловалась, что цветов чересчур много, и от их запаха у нее мигрень начинается, но Эмили не ощущала и тени аромата.
– Три могилы разграблены, тела похищены…
Наклонившись, Эмили коснулась носом бледного бутона Camaieu. Ничегошеньки.
– Куда только полиция смотрит?
А если потянуться к Empress Josephine, чьи темно-розовые чашечки желтеют к серединке, и оттого становятся похожими на странные глаза? Они следят за Эмили! Они знают, что Эмили ничего не делает!
И опять же, глаза эти напрочь лишены запаха.
Как интересно…
Эмили поднялась, отложила книгу, которую по старой привычке всюду носила с собой, и шагнула к раскидистому кусту дамасской Kazanlink.
– Уму непостижимо. Кому понадобились мертвецы?
– Анатомическому театру, – ответила Эмили, стряхивая с цветка пчелу.
А прежде она, кажется, боялась пчел…
И зачем она про театр сказала? Откуда знает? Ниоткуда. Просто знает.
– Эмили, ты совершенно невозможна! – тетушка мигом отложила газету, бросив ее на столик. – Зачем ты мучаешь несчастную розу?
Мучает? Эмили просто хочется услышать запах. Она ведь помнит, что розы должны пахнуть, по-разному, но все равно красиво. А они, как назло, таятся.
И от легчайшего прикосновения осыпаются лепестками.
Розы очень хрупкие. Люди тоже.
Откуда Эмили это знала? Ниоткуда.
– Вы идите, милая тетушка. У вас же голова болит, – сказала Эмили, глядя в глаза. Похожи на кусочки агата в сетке морщин. Захотелось потрогать. Нельзя. Люди хрупкие. Как розы. – А я еще посижу… почитаю…
И тетушка послушалась. Она вдруг замолчала и, приподняв юбки – высоко, так, что видны стали и башмаки, и чулки – направилась к дому. Шла она прямо по траве, и это тоже было удивительно.
Эмили пожала плечами, стряхнула с рук лепестки и уселась в тетушкино кресло.
Наверное, было хорошо.
Небо синее. Дом белый. Пчелы звенят. Птицы поют. Надо заказать несколько клеток, чтобы повесить в саду и в доме – говорят, это модно.
Нужно быть модной. Зачем? Эмили не помнила. Пальцы ее рассеянно скользили по столу, пока не наткнулись на газету. Читать не хотелось, но взгляд зацепился за заголовок. Огромные буквы распирали муравьиную вязь строк.
– К-кошмарное, – первое слово далось с трудом, но Эмили не отступила и, повторив его про себя – кошмарное, кошмар-р-рное – продолжила чтение: – Убийство на Бакс-Роу. Кошмарное убийство на Бакс-Роу.
Где находится эта улица, Эмили представляла слабо. Да и до жертвы – некой Мэри Никлз – ей не было ни малейшего дела, однако что-то заставляло читать, продираясь сквозь буквы, выстраивая слоги в слова, а слова – во фразы.
И с каждой голова болела все сильнее.
Когда Эмили дочитала до места, где описывалось, как именно была убита мисс Мэри Энн Никлз, известная, как девица Полли, головокружение стало невыносимым. А на словах «изъял сердце и некоторые иные органы» нахлынул вдруг тяжелый сладкий аромат раздавленных роз. Эмили попыталась было вдохнуть, но обнаружила, что дышать не может.
Руки упали, позволив мятому газетному листу соскользнуть на землю.
Эмили застыла.
Спустя минуту или две на столик, едва не опрокинув графин с водой, сел крупный ворон. Вытянув шею, он уставился на Эмили сначала одним, потом другим глазом. Убедившись, что девушка неподвижна, ворон перебрался на колени, сердито каркнул и тюкнул клювом в раскрытую ладонь.
– Тише, Мунин, тише, – зашипели из кустов жимолости. – Слышу я. И не только я, чтоб тебя крыса задрала!
Ворон издал звук, отдаленно напоминающий смех.
– Слезь с нее… от беда-беда, а я ему говорил, что надо приглядывать! – карлик, выбравшийся из зарослей, принялся отряхиваться. – И вообще погодить. Конструкция несовершенна! Не-со-вер-шен-на! Нет же, вечно спешат, вечно торопят…
Ворон снова каркнул и взлетел. Устроившись на ветке сливы, он притворился обыкновенной птицей и даже принялся долбить клювом серую шишку-нарост на коре.
Карлик же, воровато оглядываясь, подобрался к мисс Эмили, достал из складок синих шаровар лупу и пинцет, которым подцепил верхнее веко. Заглянув сначала в один, потом во второй глаз, карлик тяжко вздохнул. Его пальцы сомкнулись на тонких запястьях, а губы зашевелились, отсчитывая пульс.
– Живая. Скажи ему, что до ночи дотянет. И пусть все инструменты возьмет! Все!
Хлопнули черные крылья, и ворон тяжело поднялся в воздух. Карлик же, заботливо поправив сбившееся платье, забормотал:
– Ненадежные. Как есть ненадежные. А если и другие сломаются, что тогда? А ничего! Говорил же я, ждать надо… надо ждать… неймется ему…
Он скрылся в кустах, вспугнув с гнезда желтогрудую коноплянку, и улегшись на траву, принялся наблюдать.
Вот появилась служанка, завертелась у кресла бестолковой собачонкой, наконец, додумалась побежать в дом за помощью. Вернулась она не одна. Возглавлял процессию дворецкий. Шел он быстро, вместе с тем движения его казались неспешными и преисполненными чувства собственного достоинства. За ним семенила экономка, женщина квадратная и неуклюжая, чем-то напоминающая тюк соломы, обернутый несколькими слоями темного хлопка. Личная горничная неслась прямо по траве, не решаясь, однако, обогнать миссис Хоудж. Сзади уныло брели два лакея с неким подобием носилок.
– Сборище идиотов, – пробурчал карлик, глубже зарываясь в сухой мох.
– Мисс Эмили! Мисс Эмили! – взвизгивала горничная, картинно заламывая руки.
– Мэри, замолчи. Где ты была? – короткий пальчик экономки уперся в конопатый нос девицы. – А? Где? Опять с этим миловалась? Вот погоди, узнает миссис Беата…
– Газетчики виноватые! Такого понаписывают, что прямо ужас! И я как прочла, так едва не сомлела…
– Гуляешь, гуляешь, а потом невесть кого в дом приведешь? Нет, милочка, теперь-то тебе не…
– Обе умолкните, – велел дворецкий. – С ней все в порядке, просто…
– Слабость!
– Девичья, – залившись краской пробормотала горничная. – Бывает. Нужно врача и…
– А миссис Беате я все равно доложу. Где это видано, чтоб…
Бухтение смолкало, сад снова наполнялся звуками привычными и уютными. Только коноплянка все не решалась вернуться в гнездо и металась в ветвях, чирикала, прогоняя пришельца.
Карлику и самому надоело лежать. Некоторое время он ворочался, силясь найти положение удобное для тела, после застонал и, выбравшись, принялся мять спину.
– Что я ему? Чучело, чтоб в кустах сидеть? Нет, чучело, да?
Коноплянка метнулась к гнезду, распластавшись поверх мелких горошинок-яиц комом бурого пуха. Глупая птаха.
– Сам бы и сидел, коли так надо… я свой долг выплатил! Выплатил! Idiota senza cervello! – ударив себя кулачком в грудь, он быстро пошел по дорожке, ведущей к дому. Крохотная дверца в стене была почти незаметна, но несмотря на кажущуюся заброшенность и ржавые вроде бы петли, открылась легко и беззвучно. И закрылась также.
Карлик же с неожиданной живостью заковылял по узкой лесенке, которая пряталась в толстой стене дома. Добравшись до окошка, крохотного, словно бойница, он прильнул к стеклу.
– Явился… конечно, куда тебе деваться-то.
В руке уродца появилась круглая шкатулочка, которая после нескольких ловких манипуляций, превратилась в подзорную трубу. Карлик не стал трогать окно, но вытащил один из кирпичей рядом. И тотчас отпрянул – в дыру скользнуло гибкое птичье тело в броне угольно-черных перьев.
– Брысь пошел! Зар-р-раза! Приехал, значит? Конечно… куда ему теперь. И что там?
О проекте
О подписке