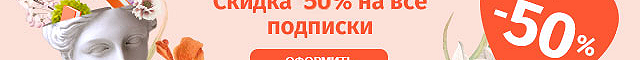
2
Клубнично-розовая вилла
Квадратная вилла с розовощеким достоинством возвышалась в маленьком саду. Выцветшая от солнца до салатно-кремового оттенка, краска на ставнях кое-где вздулась и потрескалась. В садике, окруженном высокой изгородью из фуксий, цветочные грядки располагались в сложном геометрическом порядке, выложенные гладкими белыми камушками. Белые мощеные дорожки, не шире грабель, затейливо вились между клумб в виде звезд, полумесяца, треугольников и кругов, не больше соломенной шляпы, и все они буйно заросли одичавшими цветами. С роз облетали гладкие лепестки размером с блюдце – огненно-красные, бледно-лунные, матовые, даже не увядшие; бархатцы, как выводки косматых солнышек, поглядывали за передвижениями в небе своего родителя. Из низких зарослей анютины глазки высовывали бархатные невинные личики, а фиалки печально сникали под своими листочками в виде сердечек. Бугенвиллея, разбросавшая свои шикарные побеги с пурпурно-красными цветами-фонариками поверх балкона, казалось, была там кем-то вывешена перед карнавалом. В темной изгороди фуксий бесчисленные бутоны, чем-то напоминающие балерин, трепетно подрагивали, готовые вот-вот раскрыться. Теплый воздух был пропитан запахами увядающих цветов и тихим, умиротворяющим жужжанием насекомых. Как только мы все это увидели, нам захотелось здесь жить; вилла словно давно ждала нас. Было ощущение обретенного дома.
Спиро, так неожиданно ворвавшийся в нашу жизнь, взял полный контроль над нашими делами. Так будет лучше, объяснил он, поскольку его все знают и он никому не позволит нас обдурить.
– Вы ни о чем не беспокоиться, миссис Даррелл, – заверил он мать со своим обычным оскалом. – Оставить все мне.
Он возил нас по магазинам, где мог битый час собачиться с продавцом, чтобы в результате выбить скидку на пару драхм, то бишь один пенс. Дело не в деньгах, а в принципе, пояснял он нам. Немаловажным фактором было и то, что он, как всякий грек, обожал торговаться. Не кто иной, как Спиро, узнав, что мы не получили денежный перевод из Англии, одолжил нам нужную сумму и лично отправился в банк, где устроил разнос клерку по поводу плохой работы, а то, что бедняга тут вовсе ни при чем, его не остановило. Спиро оплатил наш счет за гостиницу и нанял машину, чтобы перевезти все наши вещи на виллу, и сам же потом отвез нас туда, набив багажник им же закупленными продуктами.
То, что он знал всех на острове и все знали его, как мы вскоре выяснили, не было простым бахвальством. Где бы он ни тормознул, сразу несколько голосов выкрикивали его имя и зазывали его присесть за столик в тени деревьев и выпить кофе. Полицейские, крестьяне и священники, когда он проезжал мимо, приветственно махали ему рукой и улыбались; рыбаки, бакалейщики и владельцы кафе принимали его как брата. «А, Спиро!» – расплывались они так, словно он был непослушным, но всеми любимым ребенком. Они уважали его за воинственную прямоту, а превыше всего их восхищало его типично греческое презрение, помноженное на бесстрашие, в отношении любых проявлений чиновничьей бюрократии. По приезде два наших чемодана с бельем конфисковали на таможне под забавным предлогом, что это товар на продажу. И когда мы переезжали на розовую виллу, мать рассказала Спиро про застрявший багаж и попросила у него совета.
– Божья мать! – прорычал он, весь красный от гнева. – Миссис Даррелл, почему вы мне не сказать раньше? Таможня – это такой бандит. Завтра я вас отвезти и устроить им такое! Они меня хорошо знать. Позвольте, я им всыпать первое число.
На следующее утро он повез мать на таможню. Мы увязались за ними, не желая пропустить этот спектакль. Спиро ворвался в помещение, как разъяренный медведь.
– Где вещи у этих людей отбирать? – спросил он у толстячка-таможенника.
– Речь об их багаже с товаром? – уточнил чиновник на приличном английском.
– Я об этом и говорить!
– Багаж здесь, – осторожно признал чиновник.
– Мы его забирать, – осклабился Спиро. – Все приготовить.
Он вышел из ангара, чтобы найти носильщика, а когда вернулся, таможенник, взяв у матери ключи, как раз открывал один из чемоданов. Спиро с гневным рыком подбежал и захлопнул крышку, при этом отдавив пальцы несчастному чиновнику.
– Ты зачем открывать, мерзавец?
Таможенник, размахивая ушибленной рукой, запротестовал: дескать, проверять содержимое – это его прямая обязанность.
– Обязанность? – переспросил Спиро с неподражаемым презрением. – Что это? Ты обязан нападать на невиновные иностранцы? Считать их контрабандисты? Это твой прямая обязанность?
Секунду помедлив, Спиро сделал глубокий выдох, подхватил два здоровых чемодана и зашагал к выходу. В дверях он обернулся для добивающего выстрела.
– Я тебя, Христаки, знать как облупленный, так что ты мне не говорить про свои обязанности. Я не забыть, как тебя оштрафовать на двенадцать тысяч драхмы за браконьер. Обязанности у него, ха!
Мы возвращались домой со своим багажом, целехоньким, не прошедшим досмотра, как триумфаторы.
– Эти мерзавцы считать, что они на остров хозяева, – прокомментировал Спиро, похоже даже не догадываясь, что это он так себя ведет.
Однажды взяв бразды правления в свои руки, он к нам пристал как репей. За несколько часов он из водителя превратился в нашего защитника, а уже через неделю он стал нашим гидом, мудрым советчиком и другом. Мы считали Спиро полноправным членом семьи и не предпринимали никаких действий, ничего не планировали без его участия. Он всегда был рядом, громогласный, скалящийся, устраивал наши дела, объяснял, сколько за что платить, не спускал с нас глаз и сообщал матери обо всем, что, по его мнению, ей следовало знать. Тучный, смуглый и страшный на вид ангел, он заботливо приглядывал за нами, как если бы мы были неразумными детьми. Нашу мать он откровенно боготворил и каждый раз, где бы мы ни оказались, громко пел ей осанны, чем вводил ее в крайнее смущение.
– Вы поступать осторожно, – говорил он нам, строя устрашающую физиономию. – Чтобы ваша мать не волноваться.
– Это еще зачем, Спиро? – притворно изумлялся Ларри. – Она для нас ничего хорошего не сделала. Почему мы должны о ней печься?
– Ах, господин Лорри, вы так не шутить, – расстраивался Спиро.
– А ведь он прав, – с серьезным видом поддерживал старшего брата Лесли. – Не такая уж она хорошая мать.
– Не говорить так, не говорить! – рычал Спиро. – Видит боги, если бы у меня такая мать, я бы каждое утро целовать ей ноги.
Словом, мы заняли виллу, и каждый по-своему обустроился и вписался в окружающую среду. Марго, надев откровенный купальник, загорала в оливковой роще и собирала вокруг себя горячих поклонников из местных крестьянских ребят приятной наружности, которые, как по мановению волшебной палочки, появлялись из ниоткуда, если к ней приближалась пчела или нужно было передвинуть шезлонг. Мать сочла необходимым заметить, что, по ее мнению, загорать в таком виде несколько неблагоразумно.
– Мать, не будь такой старомодной, – отмахнулась Марго. – В конце концов, мы умираем один только раз.
Это утверждение, столь же озадачивающее, сколь и бесспорное, заставило мать прикусить язык.
Трое здоровых крестьянских парней, обливаясь потом и отдуваясь, полчаса переносили в дом сундуки Ларри под его непосредственным руководством. Один огромный сундук пришлось втаскивать через окно. После того как все было закончено, Ларри весь день распаковывался со знанием дела, а в результате его комната, заваленная книгами, стала абсолютно недоступной. Возведя по периметру книжные бастионы, он засел за пишущую машинку и выходил из комнаты с отсутствующим видом, только чтобы поесть. На второй день, рано утром, он выскочил в сильном раздражении по причине того, что крестьянин привязал осла к нашей живой изгороди и животное с завидным постоянством открывало пасть, издавая долгий тоскливый рев.
– Не смешно ли, спрашиваю я вас, что будущие поколения лишатся моих трудов только потому, что какой-то идиот с мозолистыми руками привязал эту вонючую зверюгу под моим окном?
– Дорогой, – отреагировала мать, – если он так мешает, почему бы тебе не отвести его подальше?
– Дорогая мать, у меня нет времени на то, чтобы гоняться за ослами по оливковым рощам. Я швырнул в него брошюру по теософии – тебе этого мало?
– Бедняжка привязан. Как он может сам освободиться? – сказала Марго.
– Должен быть закон, запрещающий привязывать этих мерзких тварей возле чужих домов. Кто-нибудь из вас уведет его, наконец?
– С какой стати? – удивился Лесли. – Нам же он не мешает.
– Вот в чем проблема этой семьи, – посетовал Ларри. – Никаких взаимных услуг, никакой заботы о ближнем.
– Можно подумать, ты о ком-то заботишься, – заметила Марго.
– Твоя вина, – сурово бросил Ларри матери. – Это ты нас воспитала такими эгоистами.
– Нет, как вам это нравится! – воскликнула мать. – Я их так воспитала!
– Кто-то же должен был приложить руку, чтобы сделать из нас законченных эгоистов.
Кончилось тем, что мы с матерью отвязали ослика и отвели его ниже по склону.
А тем временем Лесли распаковал свои револьверы и заставил нас всех вздрагивать, устроив бесконечную пальбу из окна по старой жестянке. После столь оглушительного утра Ларри выскочил из комнаты со словами, что невозможно работать, когда дом содрогается до основания каждые пять минут. Лесли, обидевшись, возразил, что ему необходима практика. Это больше похоже не на практику, а на восстание сипаев, окоротил его Ларри. Мать, чья нервная система тоже пострадала от этого буханья, посоветовала Лесли попрактиковаться с незаряженным револьвером. Тот долго объяснял, почему это невозможно. Но в конце концов с неохотой отнес жестянку подальше от дома; теперь выстрелы звучали приглушеннее, но не менее неожиданно.
Бдительное око матери не выпускало нас из виду, а в свободное время она обживалась на свой лад. Дом заблагоухал травами и острыми запахами лука и чеснока, кухня заиграла разными горшками и горшочками, среди которых она сновала в съехавших набок очках, бормоча что-то себе под нос. На столике лежала шаткая стопка поваренных книг, в которые она временами заглядывала. Освободившись от кухонных обязанностей, она со счастливым видом перебиралась в сад, где с энтузиазмом полола и сажала и с меньшей охотой стригла и подрезала.
Для меня сад представлял существенный интерес, и мы с Роджером сделали для себя кое-какие открытия. Например, Роджер узнал, что обнюхивать шершня себе дороже, что достаточно из-за ворот посмотреть на местную собаку, как она с визгом убегает, и что курица, выскочившая из-за живой изгороди и тут же с диким кудахтаньем пустившаяся наутек, является добычей не менее желанной, чем незаконной.
Этот сад при кукольном домике был поистине страной чудес, цветочным раем, где разгуливали доселе мне неведомые существа. Среди толстых шелковистых лепестков цветущей розы уживались крошечные крабоподобные паучки, которые бочком отбегали, стоило только их потревожить. Их прозрачные тельца своим окрасом сливались со средой обитания: розовый, слоновая кость, кроваво-красный, маслянистый желтый. По стеблю, инкрустированному зелеными мошками, сновали божьи коровки, как свежераскрашенные заводные игрушки: бледно-розовые в черных пятнах, ярко-красные в бурых пятнах, оранжевые в черно-серых крапинках. Округлые и симпатичные, они охотились на бледно-зеленых тлей, коих было великое множество. Пчелы-плотники, похожие на мохнатых медвежат цвета электрик, выписывали среди цветов зигзаги с деловито-сытым гудением. Хоботник обыкновенный, весь такой гладенький и изящный, носился над тропками туда-сюда, с суетливой озабоченностью, изредка зависая и мельтеша до серой размытости своими крылышками, чтобы вдруг зарыться длинным тоненьким хоботком в цветок. Среди белых булыжников большие черные муравьи, сбившись в стаю, суетились и жестикулировали вокруг неожиданных трофеев: мертвой гусеницы, лепестка розы или высохшей травинки, усеянной семенами. В качестве аккомпанемента ко всей этой деятельности из оливковой рощи позади живой изгороди из фуксий доносилось неумолчное многоголосие цикад. Если бы жаркое дневное марево умело издавать звуки, они были бы похожи как раз на странные, сродни перезвону колокольчиков, голоса этих насекомых.
Поначалу я был так ошеломлен избытком жизни у нас под носом, что я ходил по саду как в тумане, замечая то одно существо, то другое и постоянно отвлекаясь на бесподобных бабочек, перелетавших через живую изгородь. Со временем, когда я попривык к насекомым, снующим среди тычинок и пестиков, я научился сосредотачиваться на деталях. Я часами сидел на корточках или лежал на животе, подсматривая за частной жизнью крошечных существ, а рядом с покорным видом сидел Роджер. Так я для себя открыл кучу интересного.
Я узнал, что крабовидный паучок способен менять расцветку не хуже хамелеона. Пересадите такого паучка с ярко-красной розы, где он казался коралловой бусинкой, на белоснежную розу. Если он пожелает там остаться – что чаще всего и происходит, – то постепенно он начнет бледнеть, словно эта перемена вызвала у него анемию, и через пару дней вы увидите белую жемчужинку среди таких же лепестков.
Я обнаружил, что под живой изгородью, в сухой листве, живет совсем другой паук – заядлый маленький охотник, в хитрости и жестокости не уступающий тигру. Он обходил свои владения, поблескивая зрачками на солнце, то и дело останавливаясь, чтобы приподняться на мохнатых лапках и осмотреться. Углядев муху, решившую позагорать, он на миг застывал, а затем со скоростью, сравнимой разве что с ростом зеленого листочка, начинал к ней подбираться, практически незаметно, но все ближе и ближе, иногда беря паузу, дабы проклеить на очередном сухом листе шелковистую дорогу жизни. Подобравшись достаточно близко, охотник застывал, тихо потирая лапки, как покупатель при виде хорошего товара, и вдруг, совершив прыжок, заключал в мохнатые объятья замечтавшуюся жертву. Если такой паучок успевал занять боевую позицию, не было случая, чтобы он остался без добычи.
От всех этих открытий меня распирала радость, которой я должен был поделиться, поэтому я врывался в дом и огорошивал семью известием, что странные извивающиеся черные гусеницы на розах на самом деле никакие не гусеницы, а детеныши божьих коровок, или не менее ошеломляющей новостью, что мухи-златоглазки откладывают яйца на ходулях. Последнее чудо мне посчастливилось наблюдать воочию. Златоглазка ползала по листьям розы в восхищении от собственных тонких и прекрасных крылышек, играющих на солнце, как зеленые стеклышки, и огромных глаз, словно из жидкого золота. И вот она остановилась и опустила заостренный низ брюшка. Немного так постояв, она задрала хвостик, и из-под него, к моему изумлению, вылезла тонкая нить, похожая на белесый волос. А затем на его конце появилось яйцо. Самочка отдохнула, чтобы снова повторить это шоу, и в результате поверхность розового листа выглядела так, будто на нем вырос целый лес крошечных плаунов. Отложив яйца, она слегка поиграла антеннами и улетела, нарисовав в воздухе своими прозрачными крылышками этакое зеленое марево.
Но, пожалуй, самое замечательное открытие, сделанное мной в этом пестром мире лилипутов, куда я получил доступ, было связано с гнездом уховертки. Я давно мечтал его найти, но мои поиски долго не увенчивались успехом. Поэтому, когда я на него наткнулся, радость моя была чрезвычайной, как если бы я неожиданно получил чудесный подарок. Отколупнув кусок коры, я обнаружил инкубатор, ямку в земле, явно вырытую самим насекомым. Уховертка угнездилась в этой ямке, прикрывая несколько белых яичек. Она сидела на них, как курица на яйцах, и даже не пошевелилась, когда в нее ударил поток света. Сосчитать все яички я не мог, но, сдается мне, их там было немного, из чего я заключил, что она еще на завершила кладку. Я аккуратно заложил отверстие корой.
С этого момента я ревниво охранял гнездо. Вокруг него я построил каменный бастион, а в качестве дополнительной меры безопасности написал красными чернилами предупреждение и закрепил его на шесте в непосредственной близости: «АСТАРОЖНО – ГНЕЗДО УХОВЕРТКИ – ХАДИТЕ ПАТИШЕ». Забавно, что без ошибок я написал только два слова, имеющие отношение к биологии. Примерно раз в час я устраивал уховертке десятиминутную проверку. Не чаще – из страха, что она может сбежать из гнезда. Количество отложенных яичек постепенно увеличивалось, а самка, кажется, привыкла к тому, что у нее над головой периодически снимают крышу. Из того, как она дружески поводила туда-сюда своими антеннами, я даже заключил, что она меня уже узнает.
К моему горькому разочарованию, несмотря на все мои усилия и постоянное дежурство, детки вылупились ночью. После всего, что я для нее сделал, могла бы отложить это дело до утра, чтобы я стал свидетелем. Словом, передо мной был выводок крошечных, хрупких на вид уховерток, словно вырезанных из слоновой кости. Они осторожно телепались у матери между ног, а более предприимчивые даже залезали на ее клешни. Это зрелище согревало сердце. Но уже на следующий день гнездо опустело – моя чудесная семейка разбежалась по саду. Позже мне попался на глаза один из того выводка; конечно, он успел подрасти, окреп и покоричневел, но я его сразу узнал. Он спал, свернувшись в чаще из лепестков розы, и, когда я его потревожил, он недовольно задрал свои задние клешни. Приятно было бы думать, что это он так салютует, радостно меня приветствует, но, оставаясь честным перед собой, я вынужден был признать, что это не что иное, как предупреждение потенциальному врагу. Впрочем, я его простил. В конце концов, он был еще совсем крохой.
Я познакомился с дородными крестьянскими девушками, которые два раза в день, утром и вечером, проезжали мимо нашего сада, сидя бочком на понурых, с висящими ушами осликах. Голосистые и пестрые, как попугаи, они болтали и хохотали, труся под оливковыми деревьями. По утрам они приветствовали меня с улыбкой, а по вечерам перегибались через живую изгородь, осторожно балансируя на спине своего осла, и с той же улыбкой протягивали мне дары – гроздь еще теплого от солнца янтарного винограда, черные, как смола, финики с проглядывавшей здесь и там розоватой мякотью или гигантский арбуз, внутри похожий на розовеющий лед. Со временем я научился их понимать. То, что вначале казалось полной абракадаброй, превратилось в набор узнаваемых звуков. В какой-то момент они вдруг обрели смысл, и постепенно, с запинками, я стал сам произносить отдельные слова, а потом начал их связывать в грамматически неправильные и сбивчивые предложения. Наши соседи приходили от этого в восторг, как будто я не просто учил их язык, а раздавал им изящные комплименты. Перегибаясь через изгородь, они напрягали слух, пока я рожал приветствие или простейшее замечание, и после успешного завершения они расплывались от удовольствия, одобрительно кивали и даже хлопали в ладоши. Мало-помалу я выучил их имена и родственные связи, усвоил, кто из них замужние, а кто об этом только мечтает, и прочие подробности. Я узнал, где в окрестных рощах находятся их домики, и, если мы с Роджером проходили мимо, нам навстречу высыпала вся семья с радостными восклицаниями, и мне выносили стул, чтобы я посидел под виноградной лозой и поел с ними вместе какие-нибудь фрукты.
О проекте
О подписке