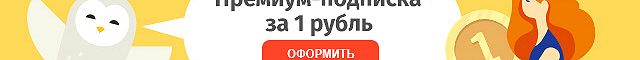
И больно ей было, и бешено, и весело, и нежно. Нежно – к маме. И ни секунды больше не жалела Зоська, не переживала, не дёргалась, не пыталась что-то оплакать по-девичьи, нет уж! – такой уж у неё был папы-мамин характер, что с грохотом разорвала-припечатала она все кружевные-детские мечты и выпалила, в первый раз в жизни при маме коряво выматерившись:
– Ну и хуй с ним. В другой институт поступлю.
– Точно, – Тася, чуть прищурившись, глянула на взъерошенную девочку. – Я знаю, что будет. Мне Захаровна тут хвасталась, что её Света в Ленинград едет. Будет поступать в технологический, будет технологом по всяким молочным делам. А что, если и тебе? Будешь сыры, сметану делать на нашем молокозаводе, как сыры будем в масле кататься. А что? С простыми людьми – оно и жизнь проще жить. А там, глядишь, и сама разберёшься, что и как. И с кем жизнь лучше жить. Ленинград – самый лучший город в Союзе, не то что Киев с его надутыми пурцами. Ленинград, ты только подумай – Ле-нинград. Хочешь?
…Вот так – в секунду – решаются судьбы. Можно годами лелеять надежды, строить планы и людям доверяться, их умные советы слушать, им следовать и верить, можно учиться, книжки читать и готовиться к одной жизни, а тут – бац! – и надо эту непрожитую жизнь поломать – и совсем по-другому решить. А всё потому, что совесть сама подсказывает, где справедливость и где она – правда. Сложная это штука – справедливость. Как её померить? У каждого ведь своя правда. У богатого одна правда, у бедного – своя. У больного и здорового правды разные. И у добряка правда, и у подлеца, да и у лжеца – ведь тоже своя правда. А люди справедливости хотят. Чтобы по справедливости. Ведь и не всегда поровну получается справедливость. А по совести. Что же – совесть у каждого своя? Как и правда – тоже своя? Так, получается? Вроде ведь одно и то же – справедливость правду ведает. Только что-то не так. Справедливость – откуда она берётся? Какой меркой меряется? Жизнь сама подсказывает – когда ребёночку, старику или больному побольше, а себе поменьше, когда любимую женщину укрыть своей одеждой, а самому дрожать, когда промолчать нельзя, больше нету мочи терпеть – вот тогда и понимаешь, откуда берётся эта штука – справедливость. Получается, что она подлости противоположна. Как кривда противоположна правде, так и справедливость – подлости. Так? Да вроде так. Только когда? Да вот тогда, когда всю жизнь живём, себя не зная, пока не приходит секунда – узнать, испытать и решать. Не свою – а ближнего правду ведать. И самому решать, без подсказки. А Бог смотрит. Именно. Ладно, мы ж молодые, пошли жить дальше – жизнь удивительная штука…
– Ленинград?
– Да. И Света едет, да и Коля Зинченко – тоже.
– Колька? Колька мне ничего не говорил! Ах же паразит! Это он точно… Да, ведь Стас – ну, помнишь? – Стас, его старший брат, он же в геологическом в Ленинграде (Зоська еле успела прикусить язык, чтобы не проболтаться о домашнем твисте с братьями Зинченками – не хватало только этого!). Точно! Слушай, ты так классно это придумала! Я к Кольке побегу, порасспрашиваю.
– Да погоди ж ты! Пойдём, ужин сготовим. Куда ж ты? Люди заняты, завтра сходишь, вот ведь неугомонная какая! Отца покормить надо – придёт с дежурства голодный, уставший, бессонный.
– Мам! Ну я быстро! Мам, ну пожалуйста!
– Нет уж, доня. Пошли в дом. Завтра будет день, будет и пища. Ну-ну, не смотри, не смотри. Всё будет хорошо, я так чувствую.
5
– Зося Васильевна? Добровская?
– Да. А откуда вы меня знаете?
– Как откуда? Вы анкету заполняли? За документами пришли? Вас ждут.
– Кто ждёт? Я ведь документы заберу – и всё.
– Вы ещё очень молодая девушка, чтобы я тратила на вас время, пожалуйста, не спорьте, у меня и без вас тысяча дел. Быстро идёмте за мной, вас хотят видеть. Вы идёте? Нет, не сюда, направо. Нет, не на кафедру. Так, успели. Нет, товарищи, товарищ Орленко просил подождать. Нет, Маргарита Константиновна, нет. Валерий Петрович занят. Ждите. Сколько надо, столько и подождёте. Я вас приглашу. Зося Васильевна, проходите, вас ждут. Всё-всё, товарищи. Тихо…
– Здравствуйте.
– Здравствуй, Зося. Проходи, садись.
– Я постою.
– Тебе документы вернули? Ты извини, что я плохо говорю, я от врачей удрал.
– Ещё не вернули.
– Ты так и будешь молчать? Дай-ка я на тебя посмотрю. Так вот какая ты – Зося Добровская. Так что же – давай посмотрим твои документы… Так… Вот – золотая медалистка из Топорова, это, как я понимаю, да – республиканские олимпиады, это рекомендация райкома комсомола, танцевальные конкурсы, областное первенство – и забирать документы? Видишь, сколько я про тебя знаю? Побольше, чем ты в анкете написала, Зося Васильевна Добровская, да? Какой ты факультет выбрала? Филологический? Правильно. Как мама. Жаль, мама не смогла доучиться. Война… Что с людьми творит, как ломает… Так мы же, фронтовики, для того и воевали, сражались на фронтах Великой Отечественной, чтобы вы, молодое поколение, наша надежда и гордость, смогли продолжить наше дело. Так что же ты, молодое поколение, да ещё и с такими задатками – отказываешься? У нас в университете сильнейшая комсомольская организация, такие, как ты, очень нужны для большой и важной работы. И на виду будешь, и дел полно – и старшие товарищи, коммунисты-фронтовики, – мы тоже рядом… Ты подумай, Зося Добровская, от чего ты сгоряча отказываешься. Я не сомневаюсь, что ты великолепно сдашь вступительные экзамены, твоя мама тоже блестяще всё сдавала, когда мы учились вместе. Она тебе рассказывала?
– Рассказывала.
– Очень хорошо, что рассказывала. А рассказывала она, какая дружная у нас была группа? Рассказывала, как мы, лучшие студенты, рекомендации в партию получили? Молчишь? А рассказывала, как перед самой войной в нашем комитете комсомола нас собирали? Тоже не рассказывала? Видишь, как много ты не знаешь, Зося Добровская? А ведь мы с твоей мамой очень дружили. Жаль, что в то героическое время, когда огонь войны поджигал наши города и сёла, когда мы, опалённое огнём сражений, молодое тогда поколение, сражались днём и ночью, когда мы, германисты из университета, делали особо важное дело для нашей великой Победы, теперь уже можно об этом говорить, сколько сделали, сколько сведений добыто, столько важных операций было подготовлено с нашей помощью, сколько расшифровок было сделано… Жаль, что твоей мамы с нами не было… Очень жаль… Но видишь, мы же все – друзья – сразу нашли – и тебя, и твою маму, чтобы встретить, чтобы порадоваться все вместе, что наша дружба прошла через воду и огонь лихолетья, чтобы посмотреть и порадоваться твоим успехам. Твоим успехам, Зося, когда ты поступишь в университет. Так что же, ты хочешь разрушить надежды товарищей твоей мамы?
– Нет, не хочу. Я пришла забрать документы, потому что передумала поступать в университет. Я… Я буду поступать в другой институт.
– В университет – и передумала? Вот ещё шуточки какие! Университет – лучший вуз нашей советской Украины, один из лучших во всем Союзе! Никогда не поверю, что ты, Зося Добровская, можешь так малодушно снизить свою планку, всей молодой жизни старт. Нет, не поверю. Ну, и куда тебе сейчас захотелось, если, конечно, не такой уж это страшный-ужасный секрет?
– Я буду поступать в Ленинграде.
– В Ленинграде? А почему не в Москве, не в Томске, не в Минске, не в Алма-Ате? Да почему не в МГУ, в конце концов?
– Почему? Да потому, что Ленинград – это город революции! Это город…
– Какой? Ну же, что же ты замолкла? Что так смотришь?
– Да потому, что это Город Революции. Город, где нельзя врать! Где не врут, вот! Мама мне всё-всё рассказала! И о вашем разговоре позавчера. Ей плохо было, видели бы вы её глаза!
– Не врут? Глаза?.. Глаза. Да-да, глаза. Погоди, что ты… Погоди, сейчас. Ольга Альбертовна, воды, пожалуйста. И посмотрите там – валидол или что ещё. Да. Нет-нет, ничего. Очень хорошо. Ольга Альбертовна, прикройте дверь поплотнее. Нет-нет, ничего, пусть наша гостья останется. Нет, Ольга Альбертовна, не надо опять скорую. Сколько можно?! Сейчас отпустит, отпустит. Всё, Ольга Альбертовна, всё. Так. Слушайте внимательно. Если вы сейчас тайком, тихонько что-нибудь учудите и через какое-то время сюда войдут люди в белых халатах, Ольга Альбертовна, ну… вы поняли, да? Очень хорошо. Меня ни для кого нет. Всё.
– Я пойду.
– Стой. Стой, раз не хочешь садиться. Значит, вон как разговор повернулся… Ясно, дочка.
– Я вам не дочка.
– Тихо, доня, тихо. Я уже старый, я больной, думаешь, легко – и университетом заниматься, и в республике? Знаю, что говорю. Ты что же, думаешь, у меня всё так в жизни просто, чтобы… Ладно, всё говорю, говорю, всегда говорю. Это недостаток такой, уже профессиональный, да и руководящий такой… Говорить. А ведь я только посмотреть хотел – какая ты. Да попросить тебя – нет-нет, не с документами, бог со всем этим, нет, доня, нет. Попросить хотел, я понимаю, это глупая, это безумная мысль, это… Ведь она из-за тебя там, в Топорове, держится, понимаешь ты? Ты хоть понимаешь, что здесь – здесь! – здесь её совсем другая жизнь ждёт?! Понимаешь? Да что ты понимаешь-то?! Ты жизнь ещё не видела… Я тебя попрошу – ты вернёшься, сейчас тебе отдадут документы, а ты – ты, доня, ты ж маму увидишь, ты ей скажи… Только этим живу… Доня, отдай мне маму.
– Я… Что вы говорите?! Я… Я не могу.
– А ты, ты смоги. Послушай меня. Ладно, ты прости меня, это… так, безумство. Как-то скомкано, глупо, по-детски. Забудь, доня. Ладно, тебе идти уже надо. Погоди. Скажи маме… Скажи маме, что… Нет, ничего не говори. Да, Ольга Альбертовна. Да, лучше. Спасибо. Зайдите. Ольга Альбертовна, проводите Зосю Васильевну и лично, послушайте, лично проследите, чтобы все документы ей вернули полностью. Да. Полностью. Ну, что ж, будем прощаться. Думаю… Ладно. Ступайте, Зося Добровская. Всего хорошего.
– Прощайте.
Зося вышла.
Товарищ Орленко Валерий Петрович сидел в огромном кабинете, рассматривал издевательски дрожавшие руки, две таблетки валидола на полированном столе, весёлую немецкую пастушку и красивую фотографию, с которой ему улыбались его две уже взрослые дочки и дорогая жена Ираида Семёновна…
6
– Ну, куда теперь? Шура, какие предложения, варианты, решения? – Кирилл Давыдов, он же Давид, он же Давыдыч, подтолкнул плечом кругленького Сашку Василькова. Оба сидели на широком подоконнике, залитом солнечным светом, и сонно смотрели вниз, в пустой двор напротив общаги.
Лету оставалось меньше недели сроку, обычная для этого времени года ленинградская дождливая лирика совершенно не укладывалась в общесолнеч-ное настроение постепенно заполнявшихся общежитий ленинградского технологического института. Студенты уже начали потихоньку возвращаться из родительских гнёзд – загоревшие, заботливо закормленные мамами, бабушками и любящими тётушками, непривычно постриженные – чтобы не пугать семейства, некоторым мальчишкам и девчонкам приходилось жертвовать навороченными «коками» и «вавилонами». Те, кто вернулись чуть пораньше, уже беззаботно угостили вечно голодное общежитие привезёнными из дому припасами и теперь сосредоточенно худели, заодно отращивая правильную длину волос.
Худеть – оно, конечно, дело местами увлекательное, нужное и полезное, поскольку позволяло опять влезать в зауженные до комариного писка модные брючки и платья. Но в пустых коридорах общежития не менее пустое брюхо относительно трезвого и небритого студента урчало так, что даже привычный ко всему Лёвчик, пушистый сибиряк комендантши Анны Герасимовны, благоразумно прятался в каптёрках, лишь изредка совершая набеги в соседний корпус, где жила прекрасная половина студенческого человечества. И вот как раз в этот славный августовский полдень, вздёрнув широченный хвост, Лёвчик уверенной рысью отправился собирать обильную дань с запасливых девушек.
– Жрать пошёл, – завистливо прокомментировал кошачий манёвр Сашка, сидевший на разогретом подоконнике. – Хитрая зверюга. Помурлычет, потрётся о ножки, жрать выпросит.
– Тебя если погладит какая-нибудь девочка, ты тоже замурлычешь.
– Давид, я готов мурлыкать. Я люблю мурлыкать сытым. Но голодным мурлыкать – нет. Сколько на твоих?
– Четверть первого. А сколько в твоих?
Сашка методично вывернул карманы, складывая бумажки и копейки в кучки. Звяканье монеток заполняло коридор медной капелью. Худощавый Давид, прикрыв пушистые серые глаза, внимательно следил за подсчётами друга.
– Семь рублей, – прижимистый Сашка аж скривился от расстройства. Родительские деньги куда-то и почему-то испарились быстрее, чем он рассчитывал.
– А копеек сколько, Шура? – Давид ласково положил тяжёлую руку на плечо друга.
– А что копейки, Давид? Что копейки-то?
– Копеек сколько, ты, буржуй? Колись.
– Ну-у-у… Семьдесят девять. А что?
– Ничего, Шура. Три копейки трамвай. Ты представляешь, сколько увлекательнейших поездок по достопримечательностям города-героя Ленинграда мы можем с тобой совершить на наши копейки, Шура?
Сашка благоразумно не стал опровергать это вопиющее «наши», поскольку блестящий умница Давид, вечно голодный, худой, весёлый и безалаберно-безденежный по причине исключительной щедрости, был его лучшим другом и никогда не оставлял Сашку в учебных бедах.
– Ну… это… да.
– Именно. Ты всегда у нас правильно думаешь, Шура, – Давид меланхолично следил за высокими «кошачьими хвостами» в полуденной прозрачности небес. – Особенно талантливо у тебя получается подумать как насчёт картошки дров поджарить. Думайте, Шура, думайте. Где б нам с тобой подкрепить наши смертные тела в интересах дружественных упомянутым телам двух бессмертных душ? Шура? Ты куда смотришь так внимательно, Шура?
О проекте
О подписке
