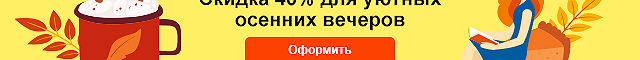
3. Тайны и парадоксы «преступной толпы»
Понятие «преступная толпа» появилось в лексиконе массовой психологии с легкой руки Сципиона Сигеле. С этого момента какие-либо альтруистические и гуманные рефлексы, казавшиеся свойственными толпе, отходят на второй план: толпа и масса представляются преимущественно злобными и жестокими монстрами, непрогнозируемыми и неуправляемыми в своих действиях.
Тогда же оказываются поставленными в тупик юристы. Во-первых, совершенно неясным остается вопрос об ответственности (юридической) толпы как целого: является ли она особым субъектом ответственности или за ее действия отвечает каждый отдельный член массы, как это принято в классической юриспруденции?
Во-вторых, становится очевидным, что вечно действующая в состоянии аффекта толпа вовсе не располагает никаким, даже самым примитивным правосознанием. Гюстав Лебон первым заметил, какое незначительное воздействие оказывают на ее импульсивную природу законы и постановления: толпа не в состоянии руководствоваться правилами, вытекающими из чисто теоретической справедливости.
Но, как коллективная психология толпы является регрессом по отношению к более сложной психологии отдельной личности, входящей в ее состав, так и юридическая ответственность толпы является институтом более примитивным, чем система индивидуальной юридической ответственности: «Чувствуется, что было бы ошибочно взваливать ответственность на более определенное и ясно выраженное целое – на отдельное лицо, так как в индивиде не заключаются все факторы такого рода преступлений; в нем скорее только одна причина, чем совокупность всех причин» (антропологических и социальных, которые вкупе несет в себе лишь толпа как собирательное целое)»[3]. То, чего недостает в индивиде, дополняет толпа, масса, поскольку она делает его своим атомом, клеткой единого организма, ведь только в ней он становится тем, чем он и является – «человеком массы».
В истории массы неоднократно выходили на передний план политической жизни, но лишь в XIX в. им удалось в ней остаться и начать диктовать собственные условия. «Восстание масс» (Ортега-и-Гассет) произошло в Европе повсеместно, массы получили в свое распоряжение все, чем ранее обладали лишь узкие слои общества, в том числе и влияние на политику. Власть массы скрывается за традиционными политическими структурами и институтами, но часто действуют помимо их и по собственным каналам влияния. В эпоху масс и социальных конфликтов целью борьбы в обществе уже не является исключительно захват структур власти, этой целью становиться осуществление социального влияния[4].
Складывается парадоксальная ситуация: к власти рвутся массы, субъект, который по самой своей внутренней природе не способен рассуждать, не способен к теоретическим и телеологическим построениям, но желающий изменить мир и управлять государствами. Масса не может отличить реального от воображаемого, люди толпы понимают единственный язык – «это язык, минующий разум и обращенный к чувству» (Серж Московичи), массы воспринимают не то, что изменяется, а лишь то, что повторяется и по сути своей весьма консервативны.
Еще один парадокс: эти консервативные, живущие прошлым и своими грезами массы становятся движущей силой всех революций и восстаний. Это среда их реализации, в смутные времена массы выходят на авансцену открыто и демонстративно, громко провозглашая свои девизы и заклинания. Именно в эти моменты на улицах появляются и «чернь», «люмпен», самые низшие слои революционной массы, именно они составляют самую активную часть толпы. Бунт и революция – это праздник для массы, революция открывает широкую дорогу преступлению, смысл которого даже не осознается, поскольку масса переживает все события в состоянии бреда.
Массовое умопомешательство часто выражается в эпидемии галлюцинаций. Ломброзо утверждает: всем великим революциям сопутствовали или предшествовали эпидемии помешательств, но к невзгодам и сумасшествию обычно присоединяются преступные инстинкты, становящиеся во время бунтов преобладающими. Политические и религиозные маньяки возбуждают стихию страстей, из которой на передний план выходят именно самые преступные и извращенные, принимают ли они форму оккультных сект или банальных преступных группировок. «Преступник, – пишет Ломброзо, – есть по самой природе своей импульсивный неврастеник, ненавидящий учреждения, которые мешают ему проявлять свои инстинкты, и потому вечный мошенник, только в бунтах видящий средство удовлетворить свои страсти, тем более что они тогда получают как бы всенародную санкцию» (С. 79). Политическая преступность прекрасно совмещается в революционные эпохи с преступностью врожденной.
Лебон, убежденный в глубоком консерватизме, свойственном массе, предупреждал при этом: внезапная смена обстановки и среды могут коренным образом изменить ее поведение, пробудив дремлющие в массе психические зародыши; «взбалтывание осадка, заложенного предками в глубине нашей души, не проходит безнаказанно. Неизвестно, что может из этого выйти: душа героя или разбойника»[5]. При переходе от состояния покоя к состоянию взрыва поведение массы столь же непредсказуемо, как и сами процессы ее образования или распада. Она быстро переходит от жестокости к альтруизму, и наоборот, совершая эти переходы одинаково спонтанно и сокрушительно для окружающей ее среды.
Актуальная для Лебона и Ломброзо проблема социализма связывалась этими исследователями с подобным типом поведения человеческой массы. Однако упомянутые авторы расходились в своих оценках (и психологических, и юридических) движущих мотивов этого социального движения. С юридической точки зрения объективные обстоятельства антигосударственной, антибуржуазной деятельности социалистов никак не сочетаются с мотивами, субъективной стороной этой деятельности. Критикуя Ломброзо, Г. Лебон замечал: «Современные психиатры полагают вообще, что фанатики социализма, составляющие авангард, принадлежат к особому типу преступников, которых они называют прирожденными преступниками. Но такое определение уж очень поверхностно… и неоправданно широко охватывает различные группы и классы людей»[6]. Примкнувшие к социалистам преступники только выдают себя за политических деятелей, чтобы скрыть за этим свою преступную сущность. Истинные же проповедники социализма, хотя и совершают деяния, с юридической точки зрения признанные преступными, с психологической точки зрения не могут рассматриваться как преступные элементы: эти деяния совершаются ими не только без всякого личного интереса (составляющего существенный признак преступления), но часто вразрез с их интересами. Эти энтузиасты поглощены религиозным чувством, мешающим им разумно и адекватно оценивать жизненную ситуацию.
Одновременно с полемикой Лебон цитирует Ломброзо, точно подметившего, что душевнобольные с альтруистическими наклонностями в новейшее время устремились из сферы религиозности в сферу деятельности «политических партий и антимонархических заговоров своей эпохи». При этом, чем «страшнее и безрассуднее идея, тем большее число душевнобольных и истеричных людей она увлекает, особенно из среды политических партий, где каждый частный успех обращается в публичную неудачу или торжество, и эта идея поддерживает фанатиков в течение всей их жизни и служит им компенсацией за жизнь, которую они теряют, или за переносимые ими муки»[7]. Альтруизм толпы объясняется прежде всего отсутствием в ней эгоизма, наличие которого возможно лишь при условии способностей к рассуждению и размышлению, свойственных индивиду, но полностью отсутствующих в толпе и массе. Альтруизм характерен для толпы в той же мере, в какой и ее неожиданные переходы от неистовости и жестокости, к слепой покорности и добродушию.
Толпа, состоящая из случайной смеси людей, руководствуется отчасти увлечениями, отчасти по-своему понятой справедливостью, любовью к скандалам; готовая к жестокости и милосердию, к истреблению и обожанию, она жаждет чего-то необычного. Настроение толпы зависит от случая, иногда для совершения политического преступления достаточно простого скопления большого количества людей. Ломброзо вторит Лебону и другим исследователям массовой психологии: «Слова ораторов действуют тогда на верующую, раздражительную, невежественную, героически настроенную толпу, подобно внушению свыше. Происходит нечто подобное нравственному опьянению, возбуждаемому, помимо занимательных речей, криками, толкотней, взаимной поддержкой. Все это заглушает индивидуальную совесть и заставляет толпу совершать такие деяния, о которых отдельное лицо никогда бы не подумало» (С. 171). Микробы зла легко распространяются в этой среде, микробы добра быстро гибнут, не находя условий для роста. Воображение отдельного индивида усиленно работает, каждый становится более доступным для внушения. Интенсивность эмоции растет пропорционально росту численности толпы. Малейший факт приобретает гигантские размеры в сознании толпы и может сподвигнуть ее к самым неожиданным действиям.
Толпа живет чувствами и верованиями. Мимолетность чувств очевидна, но еще большая опасность для современного массового общества заключена в отсутствии у массы неких общих верований, утерянных ею в ходе исторического процесса. Внешние обстоятельства постоянно меняют мнения массы, которая, будучи не в состоянии отказаться от старых верований, все время ищет новых. Так и социализм, по мнению Лебона, «может образовать собой одно из таких мимолетных вероучений, возникающих и исчезающих на протяжении одного и того же века, которые служат только для подготовки или для возобновления других верований, более подходящих и к природе человека, и к разным потребностям, которым должны подчиняться общества»[8]. (Здесь Лебон уже близок к идее «социалистического мифа», чуть позже развитого Ж. Сорелем).
4. Власть массы
«Эрой масс» назвал Гюстав Лебон наступающий XX век. Массы диктуют правительствам поведение, и эти последние стараются прислушиваться к их требованиям: «Не в совещаниях государей, а в душе толпы подготавливаются теперь судьбы наций, а божественное право масс заменяет собой божественное право королей»[9].
К XIX в. сформировалась особая форма власти, контролирующая сам процесс жизни, эта форма концентрировалась вокруг «тела – рода», вокруг тела, которое пронизано механикой живого, служит опорой для биологических процессов жизни и составляет целый набор способов контроля: «прежнее могущество смерти, в котором символизировалась власть суверена, теперь тщательно скрыто управлением телами и расчетливым заведованием жизнью»[10]. Биополитика власти по отношению к целому социальному организму постоянно исходит из представления о механической природе человеческого существа и его унифицированности, масса в этой перспективе представляется более органической и живой, чем ее отдельный член. Масса и толпа теперь первичны, индивид вторичен и производен. Власть, растворенная в массе, формирует его как члена массы: он должен быть такой же, как все, согласовывать свои действия с работой общего и единого социального механизма, его тело и душа превращаются в элементы огромной мегамашины (да и сам он теперь становится полновесным «человеком-машиной», о чем давно мечтал Ламетри). Теперь все характеристики, в том числе и политические, должны относиться не к индивиду, а к массе.
Внешне вполне демократические массы (а иной установки в психологии толпы быть и не может – здесь «все равны», все отвечают за одного, один – за всех и т. п.) своим поведением постоянно демонстрируют (новый парадокс!) склонность к деспотизму, характерному для любой массовой идеологии и массовой политической системы. Тайная связь между провозглашаемым равенством и деспотизмом установилась давно, еще Шатобриан подчеркнул эту тенденцию применительно к ситуации Французской революции: «Повседневный опыт заставляет признать, что французы бесспорно устремляются к власти, они нисколько не дорожат свободой, их идеал – равенство. Между тем равенство и деспотизм соединены тайными узами»[11]. Равенство выдвигается в качестве лозунга, посредством которого стремятся обеспечить стабильность общества масс, ведь массой становятся, именно предполагая равенство (Э. Канетти).
Либеральная и демократическая политика традиционно делает ставку на разум и рациональность, однако массы движимы, прежде всего, своими собственными страстями и заблуждениями («предрассудками», сказал бы Э. Берк, считавший только данный тип сознания способным справиться с неожиданно возникающими жизненными проблемами).
Полагаясь на интеллект, чтобы убеждать, и на расчет, чтобы преодолевать трудности, либералы не учитывают иррационального характера массовой, коллективной психологии: можно предъявлять претензии к интеллекту отдельных людей, но не масс, стихийная сила которых смущает аналитиков. Отсутствие у таких политиков воли к власти и инстинкта, с помощью которого только и можно понять массу, подготавливает новый парадокс, когда призыв к свободе порождает диктатуру, а демократия открывает путь тирану. В сфере политики только иррациональное имеет отношение к поведению массы, «разум – это приговор политике, а политика – могила разума». Там, где начинаются массы, кончается рациональное, и поскольку объектом политики могут быть только массы, то рациональность для политика – лишь помеха.
Иррациональное – характерный признак массы, это – новое явление для политических систем, построенных на рациональности, демократизме и либерализме. В «цивилизованном» обществе массы возрождают иррациональность: вытесненная из экономической сферы наукой и техникой, она сосредоточивается в сфере власти, становясь ее стержнем[12]. Если отношения людей к вещам могут быть построены и проанализированы на началах рациональности, то отношения между людьми всегда сопровождаются значительной долей иррационального, и на этом допущении строятся как психология масс, так и политика массового, т. е. современного, общества.
О проекте
О подписке