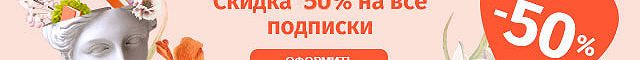
Предисловие
Эта книга писалась более десяти лет и пережила бесчисленные изменения, благодаря чему, я надеюсь, общий смысл теперь стал более понятным. Имея подготовку по литературе, истории, антропологии и клиническому психоанализу, я использовал гуманистическую традицию, чтобы описать психокультурный кризис. Мое основополагающее положение не оригинально и не может удивить: мы пытаемся контролировать, что и как мы чувствуем тем, что контролируем то, как мы выглядим. Однако я думаю, попытка соединить этот тезис с представлениями о стыде и конфликте является новой областью исследования. [1]
Позвольте мне сказать несколько слов о моих методах. Во-первых, эта книга родилась из трудностей клинического опыта: как определить, описать и проработать психологические процессы, отвечающие за вытеснение и цензуру, которые, как я выяснил, связаны с динамикой стыда, идеализацией и эдиповым конфликтом. Мои пациенты, вовлекшие меня в решение этой трудной задачи, все время вдохновляли и заставляли меня двигаться дальше своей настойчивостью и смелостью в собственном анализе, несмотря на мучительное смятение, страдание и отчаяние («болезнь к смерти», о которой говорит Кьеркегор). Отдельные моменты их анализа появляются на протяжении всей этой книги. Хотя, как клиницист, я придерживаюсь феноменологического, ориентированного на влечения и конфликты теоретического подхода, я старался избегать теоретической полемики и сложной терминологии, пытаясь рассказать историю и поместить мои исследования в более широкий контекст. Наряду с тем, что описания психодинамических процессов отражают все важные перипетии, представляющие ценность для психоаналитиков и психотерапевтов, я надеюсь, что эта книга будет интересна студентам университетов, а также широкому кругу читателей.
Я использовал психоаналитический метод исследования в том смысле, в каком использовал этот термин Зигмунд Фрейд: без психоаналитических методов и клинического сеттинга я не смог бы определить свое поле исследования. Поэтому психоаналитическая практика была мне необходима для приближения к пониманию предмета. Но я подумал, что изучение этих динамических процессов не могло быть ограничено сугубо рамками психоанализа. Как антрополог я понимал, насколько важны культурные процессы для адекватного понимания индивидуальных психодинамических процессов, и наоборот. Мне повезло, что я мог пользоваться трудами таких учителей и друзей, как Маргарет Мид, Джордж Деверу, Вестон Ла-Барр и Мелфорд Спиро. Используя работы антропологов, ученых, занимающихся социальной теорией, философов наряду с моим клиническим опытом, я имел возможность переходить от личностных феноменов к социальным и обратно, поскольку, как подчеркивал Деверу, они, по существу, скорее дополняют, чем противостоят друг другу. Кроме того, я решил, что для моей книги лучшим будет описание и изложение фактов, чем просто указание на проблему, поскольку это делает материал более ясным. Когда я начал размышлять о том, что должна из себя представлять эта книга, я столкнулся со своей непреодолимой тягой к текстам Луиджи Пиранделло, вызванной его обращением к такой теме, как облик[2] и вера человека в этот облик. Те, кому довелось читать первые наброски моей рукописи, удивлялись, что это не книга о Пиранделло. Этого не было в моих планах. Я старался понять динамику и трагические конфликты, окружающие феномены, которые оказались в центре моего внимания благодаря клинической практике. Творчество Пиранделло помогло мне исследовать и проверить мои идеи о стыде, конфликте и облике. Но, кроме того, я чувствовал в его творениях, как и в других литературных произведениях, порыв и боль, связанные с тем, что я пытался описать. В каком-то смысле Пиранделло удержал меня от того, чтобы я раздул свою теорию до размеров справочника «Золотые страницы».
В конце концов, двадцать лет, прожитых в Лос-Анджелесе, после того, как я жил в Париже достаточно времени, воспитывая ребенка, преподнесли мне контрасты, все еще до конца мною не понятые. В то время как Париж никогда не переставал изумлять меня своей красотой и интенсивностью человеческих переживаний и связей, Лос-Анджелес живет иллюзиями и химерами и убеждает, что ничто не является тем, чем представляется. То, что в результате получилось, – это книга, в которой литература используется для размышления над психодинамическими концепциями, а психоаналитические темы – для прочтения литературных произведений. Если с одной, выигрышной, точки зрения последующие страницы – это гибрид прикладной литературы и прикладного психоанализа, то с другой точки зрения – это попытка со стороны клинициста привнести жизнь в понятия тревоги по поводу внешнего облика и Эдипова стыда, связав их с гуманистической традицией, и наоборот. Надеюсь, вы найдете результат интересным, волнующим и побуждающим к размышлениям.
Вступление
Самоуважение – это надежное чувство, которое до сих пор ни у кого не вызывало подозрений.
Х. Л. Менкен
Драму Софокла «Царь Эдип» Аристотель использует в своей «Поэтике» в качестве прототипа трагедии. В момент кульминации Эдип, обнаружив, что его жена и мать Иокаста повесилась, сорвал с ее одежды золотую застежку и вонзил ее глубоко себе в глаза, восклицая:
Мои глаза, вы больше не узрите кошмара,
что терпел я и свершал.
Уж слишком долго вы смотреть посмели
на тех, кого касаться взгляд не должен был,
не видя то, что должно вам увидеть.
Впредь потому пребудьте в темноте[3].
Это апогей трагической ситуации, которую мы примем за отправную точку. Эдип не в силах видеть то, что он сделал; иначе он должен был бы испытывать сильнейшие мучения и непереносимую боль от того, насколько он был слеп по отношению к себе и собственной судьбе, ввергнув в разрушение Фивы как раз в тот момент, когда он поверил, что установил закон и порядок. Поняв, что он жил как слепец, в ярости, унижении и отчаянии он ослепляет себя. Трагедия Эдипа порождена не только ужасом и ощущением вины за то, что он невольно совершил убийство отца и женился на матери. Она состоит также – и, может быть, еще в большей степени – в его собственной слепоте относительно того, кто он есть: человек, в младенчестве брошенный своими родителями, с пронзенными ступнями, которого поручили умертвить пастуху, оставившего его беспомощного в чаще, потому что он был не в силах исполнить порученное.
Подобно Аяксу, с которым в самом начале одноименной драмы[4]Софокла сыграл злую шутку Аполлон, заставив поверить, что стадо овец – это его враги, и который не смог вынести стыда, осознав, что его обманули, Эдип претерпевает унизительное поражение. Не только от того, что он был слеп, но, что еще хуже, его слепота превратила в посмешище его устремления и его облик, продемонстрировав всему миру их тщетность и пустоту. Когда Эдип не мог более «не знать», что он совершил, когда он понял свою роль в том, что Фивы, для которых он как царь публично пообещал найти избавление, постигли бедствия, он ослепил сам себя. Мало того, что он был подвергнут остракизму и сам приговорил себя к ссылке (т. е. того, что он изолировал себя), более существенный конфликт – и человеческая дилемма – определяет его отношение к себе самому. Наказание, которому подвергает себя Эдип, словно объединяя психическую и физическую слепоту, выражает его неспособность вынести то, как он выглядит в глазах других, и поэтому он должен их уничтожить, «по-настоящему» сделав себя слепым. Когда он говорит «впредь пребудьте в темноте», он выражает суицидальный, уничтожающий гнев, направленный на других, тех, кто видит его насквозь, а также нападает на то, что связывает его с обществом и с другими человеческими существами[5].
Эдипальное поражение (нечестную конкуренцию и унизительную беспомощность), бесспорно, нельзя отделить от эдипального гнева, и драма Софокла иллюстрирует это как нельзя лучше. Даже если Эдип является царем, он по-прежнему должен противостоять своей брошенности во младенчестве и бороться со стыдом за свою эдипову победу (убийство собственного отца и сексуальные отношения с матерью). Он должен сопротивляться оглашению поражения, своей неспособности справиться с чудовищными бедствиями, потому что было необходимо продемонстрировать народу Фив, что он могущественный защитник. Его позорный крах и унижение в качестве царя эхом отразили горе и унижение, которые он пережил, будучи ребенком. Именно эти горе, унижение и боль – боль оттого, что у него были жестокие, бросившие его родители, обрекшие его на смерть, – сделали его эдипальный стыд невероятно токсичным, вызвав огромный гнев.
Фрейд интерпретировал «Царя Эдипа», сосредоточившись на вине, а также вине вместе с агрессией[6]. С тех пор аналитики склоняются к тому, чтобы связывать Эдипов комплекс с влечениями (т. е. с желанием спать с матерью и убить отца, вместе с теми защитами, которые порождаются подобными импульсами). Затем в 1970-е годы Хайнц Кохут и сторонники психологии самости сделали акцент на дефиците, а не на вине, и придали большее значение крушению идеалов Эго, чем агрессии, таким образом подчеркнув важность преэдипальной динамики в противоположность эдипальной. Но нет необходимости смотреть на психодинамику по-манихейски, как будто есть либо одно, либо другое, так как это накладывает ненужные ограничения на свободу аналитической работы[7].
В социокультурном анализе Рут Бенедикт (Benedict, 1946), Е. Р. Доддс (Dodds, 1951), Дж. Б. Перистайни (Peristiany, 1965), Г. Пайерс, М. Сингер (Piers, Singer, 1953) и другие использовали двойственный подход к вопросу, проводя различие между культурами, основанными на вине, и культурами, основанными на стыде. Эта дихотомия тоже не является необходимой. Мы увидим, что вина и стыд сосуществуют, также как агрессия и дефицит, в разнообразных сочетаниях. Не существует культуры, принадлежащей исключительно одному или другому типу. Во многих работах последнего времени, например, Ричарда Воллхейма «Об эмоциях», вина и стыд, как «так называемые моральные эмоции», рассматриваются вместе и вообще не разграничиваются.
Имея в виду континуум стыд-вина, и то, как одно переживание может скрывать другое, я сосредоточусь на спектре, относящемся к феномену стыда, в частности, на эдипальном стыде: чувстве полного провала (проигранная конкуренция), уничтожающей самокритики (рухнувшее чувство собственного достоинства), беспомощности (безответные крики о помощи), гнева – и базовых угрозах представлению о себе и психической жизнестойкости. Я постараюсь прояснить взаимоотношения между эдипальным стыдом и тревогой, связанной с собственным обликом, двигаясь в своем анализе от индивидуальных психодинамических процессов к культурным феноменам и обратно.
О проекте
О подписке