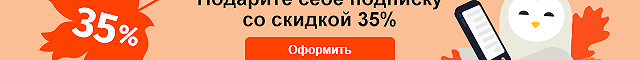
Из прошлого
Три года, трилистник судьбы.
Родство, словно за три столетья.
Любовью сквозь тучи борьбы
К тебе не могу не светлеть я.
Не в этом ли счастье: вослед
За хмурью, дождями и стынью,
Всегда будет ясный рассвет
Дышать клеверами, с полынью.
Лев Декарт
Он, временем отмеченный, сидит
На холмике и слушает саванну,
Которая всегда за ним следит,
Тревожится: его молчанье странно.
Ужасен львиный рык, но ясен всем.
О чём, задумавшись, молчит он всё же?
«Я лев. Я есмь. Под золочёной кожей
Мой рык неизречённый – голос божий.
Я тех, кто сомневается, не съем».
«Жестокосердие, душевная болезнь…»
Жестокосердие – душевная болезнь.
Она растёт невидимо, как плесень.
Болезнь, не терпящая шума, песен,
Охотница в кого б ещё пролезть.
Её питает дом благополучный,
Дом бедняка, богатый особняк.
Для ненасытной всё не так,
Всё недовольна: сладко бы помучить.
Жестокосердие – убийственная сила,
И у своих детей не-вы-но-сима.
Столетие
Июль 17 года —
Холодный, аномальный, ветреный.
Неравнодушная природа
Детей испытывает: верно ли,
Что всё они простят неласковой. —
Бесплодные сады и ливни,
Вдруг заливающие наскоро
Деревни, города, долины.
Простят ли грозы ошалелые,
Когда бросаются в падучей
На землю и плоды незрелые;
Грозят, гремят огромной тучей
И градом бьют, как пеной белою.
Привычен людям даже град.
Как пережить духовный глад?
Смотрю окрест, роптать? Смеяться ли?
Сквозь земли и все нации
Фантомной болью год 17-й.
Кровавый и решительный,
Благой и разрушительный.
«Здравствуй, фиванский философ, поэт…»
Здравствуй, фиванский философ, поэт, астроном.
В доме твоём через краткие двадцать веков
Chaire[5], говорю, улыбаюсь, сижу за столом,
Слушаю, думаю: словно по розе ветров,
Знания греков летели, как семя маслин,
В дикие земли, где разум был в прах угнетён
Страхом природы. Но сущее – разум, а с ним
Культ возникал, покорял, и, божественный, он
Рим, и Визáнтий, и мир захватил, осветив.
Призрачный жёрнов столетий народы растёр,
Царства, богов, языки, словно зёрна олив.
Греческий отжим был первым. Латинский terror[6]
Скрылся от солнца Эллады в потёмках души.
Гордость, свобода, бесстрашие: я гражданин
Мира и разума! Руды подняв, иссушив
Смрадные хляби, я – сердце цветущих долин.
Отжим четвёртый мы видим в отчизне своей.
Сладок и горек, но горечь, пожалуй, сильней.
«Только имени звук Анаит…»
Только имени звук Анаит.
Что же сердце тоскует и ноет?
Не откроет, смущённо таит
Не своё, не чужое, иное.
А душа, пуританка на вид,
К несвободе привыкшая с детства,
Повторяет себе: Анаит
И не знает, куда бы ей деться.
«Собрать рассеянных по миру…»
Собрать рассеянных по миру, —
Забрать у мира редкий ум,
И третий храм создать раввину,
Не подражая прежним двум.
Шатёр не будет ни кедровый,
Ни каменный, но шель заав[7], —
Ракетный, радужный, бескровный.
Он щит, угрозу опознав.
Храм, не опущенный на Купол
(Скала[8] и есть великий ам[9]),
Необозримый, словно Гугл,
и бесподобный, вечный храм.
«Вы не ждите, что скоро я буду…»
Вы не ждите, что скоро я буду
Сокрушённым и жалким, не факт.
Ум с достоинством светит покуда,
Как высочество носит фрак.
Ум, как ни был бы долго беремен
вольнодумством, не просит: держись.
Ум изменчив и несвоевремен,
Он растратил испуганно жизнь.
Отвратительны или прекрасны
Бытования беглые дни, —
Горе, радость и слёзы, гримасы
И слова из любой трепотни.
Утомительны, глупо отважны,
Плотоядны земные дела.
Ради них мне природа однажды
В ноосфере сказаться дала?!
Неприглядно, чтоб кто-нибудь видел
Изведённую жалкую плоть.
…В старом парке измученный дятел
потаённо исчез. Исполать.
«Не сказано – не значит, что забыто…»
Не сказано – не значит, что забыто.
Не сказанное – несказáнно.
Когда сокровище зарыто,
То сыск ума идёт азартно.
Найти не сможет и извлечь.
Но будет час, когда очнётся речь,
Придя в себя от шока отчужденья,
Сырая от тумана заблужденья,
Она прервёт с глаголом страстной суеты
Обет молчания на тему «я и ты».
«Она, с поникшими плечами…»
…И над безмолвным увяданьем
мне как-то совестно роптать.
А. Фет «Георгины»
Она, с поникшими плечами
Была отчаянье и гнев.
Глаза неправду уличали,
Слова, от страха побелев,
Неслись к обыденной печали
Через угрозы, слёзы, блеф.
…Душа с пожизненною данью
молчать велела мне опять. —
При раздражённом увяданье
мне как-то совестно роптать.
«Нет-нет, покорно доживать…»
Нет-нет, покорно доживать
Седьмой десяток я не стану.
Жиреть и всё-таки жевать?
Жалеть себя за то, что тайну
Всеобщей жажды бытия
За суетой я не расслышал?
Желать? Всего! Хотел бы я,
Всех обладаний свыше,
Сжимать с уверенностью смелой —
Дающую любовь ладонь.
О да, негаснущий огонь
Любви, сознания, вселенной!
«Военный фильм со скорбью и печалью…»
Военный фильм со скорбью и печалью
Художник, как поэму, написал.
В ней пепелища с русскими печами,
Как души умерших, взывают к небесам.
Вопит молодка, к лесу убегая.
Молчит бесслёзно старая вдова.
Не думайте: не наша боль, другая,
Не наши горе, слёзы и слова.
Но этой ночью отчего ты плакал?
Ты девушку бежавшую не спас.
Двуногий зверь о двух умелых лапах
Веками нарождается у нас.
Ему война как матушка родная.
Грабёж отец? А может быть, разбой?
О нём тоскует женщина: одна я.
Жестокий, кровожадный, но родной.
И душегубы, хищники азартно
Меняют, как напёрстки на столе,
Тюрьму сегодня на свободу завтра,
На деньги жизнь, а смерть на пистолет.
«Меня переживёт и эта чашка…»
Меня переживёт и эта чашка!
Да, если чашку я не разобью.
А как же будет ей без кофе тяжко. —
Я крепкий Carte Noir люблю.
Должно быть, затуманится, бедняжка,
Что верную уже не пригублю?
Кто в будущем и чем её наполнит?
Заглянет ли задумчиво на дно?
И что она доверчиво напомнит
С горячей укоризной заодно?
Простое слово, точно полотно,
Спасибо ей напившийся промолвит?
«Я ценю твою привязанность…»
Я ценю твою привязанность,
Многоликий ноутбук,
Терпеливость, недосказанность
И отзывчивость наук.
Хорошо, когда приветливо
Ты напомнишь то и сё.
Сайты, ссылки: белкой с веткою —
Крутишь солнца колесо.
Вещи, если мы их выбрали,
Привыкают нас любить,
И в разлуке стонут выпями,
И не могут нас забыть.
Вещи скромницы, но гаджеты
Как ревнивая жена. —
То в глазах её: и гад же ты!
То дрожит, как зверь, она.
Вещи намертво прилепятся,
Дом ли, женщину смени.
И, казалось бы, нелепица, —
Вещи преданней семьи.
Непременные, усердные,
Соприродные почти…
Так положим ближе к сердцу мы
Всё видавшие очки.
Меценат
Жил-был кардинал Оттобони.
Он церкви бесстрастно служил,
Но с пылом играл на гобое
И новый талант сторожил.
Скарлатти, Корелли, Марчелло
Играли о «жизнь коротка»,
Чтоб музыки пламя согрело
Палаццо и ночь старика.
И кресло, и жизнь кардинала
На гребне клавирной волны
Качались, как воды канала,
Дробили ночные огни.
И воск, утомившись, не капал.
Камин догорал и остыл
Прекрасного пепел и пыл.
…А что Оттобони стал папой,
Так папою кто же не был?!
«Октябрь алеет, желтеет, царит…»
Октябрь алеет, желтеет, царит.
Бряцает дубовою лирой.
И сердце, вздохнув, не о том говорит,
Мол, время условно, мой милый.
На солнечном ветре бы сердцу парить,
Смеяться б над завистью листьев,
А ветер хотел бы с красоткой острить,
Смущаясь того, что неистов.
Он будет порывистый, яркий, морской,
Ещё не студёный покуда,
Лететь за ребёнком, старухой, за мной,
Неверящим, чающим чуда.
«Цепь удовольствий, размышлений…»
Цепь удовольствий, размышлений
Тебе откроет, не стыдясь,
Как ненадёжна эта связь
Переживаний, ощущений.
В тенёта речи улови
Их, кратковременных и слабых,
Как улетучившийся запах
Духов и женщины. Любви.
«Когда сатанеешь от гнёта…»
Когда сатанеешь от гнёта
Того, что в сердцах сотворил,
Подслушай у хаоса что-то
И долго считай не своим.
Признайся с печалью и молча —
Себе самому, что не вдруг
Пришла настороженность волчья
К чужому движению рук,
И к острому взгляду, и слову,
И к хитрости полулюдей.
…Не смоешь их липкую злобу,
как запах и пот лошадей.
«Гурджаани, грузинская лёгкая грусть…»
Гурджаани, грузинская лёгкая грусть,
Послевкусие страсти томятся в глазах и гортани,
Всё горланят, картавят о давних годах наизусть. —
Там сердцами целуется юность, не ртами.
Гурджаани, соломенный запах любви,
А горчинка её это время, как горы далече.
Всякий раз были нежностью удивлены
Губы, пальцы мои, погружаясь в горячие плечи.
Нáни, гордое пламя за дверцей печи,
За щелями гудящая тяга желанья.
…Вот открыл и, сияя глазами, молчи.
Ты не мысль о любви, ты звучанье её и пыланье.
«Очарованье старины…»
Очарованье старины —
Давно забытая морока.
И современнику без прока
Касаться головой Стены[10].
Собрать друзей у фортепьяно,
На вечер Баха пригласив, —
Несовременно, даже странно,
Какой-то бзик, паллиатив.
Как может нравиться старушка,
Которой больше сотни лет,
Её манеры, букли, рюшки,
Удушье, пудра, полубред?
…Так просвещенье, если честно,
Унизило высокий слог. —
Почтенье к прошлому исчезло,
Как из кадильницы дымок.
Оно в умах не часто тлеет,
Действительность к уму строга.
…Не оттого река мелеет,
что стали выше берега.
О проекте
О подписке