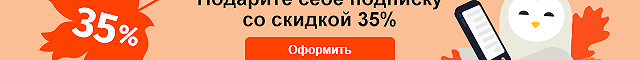
5. Лера
Большая профессорская квартира на последнем этаже в те дни принадлежала лишь им двоим: мать – на даче в Зеленогорске, брат – на студенческой практике в Тюмени.
Впервые появившись в её квартире, как, впрочем, и позже, при последующих визитах – рефлекторно? – кидался к высоким арочным окнам в затянутой густо-красной, с блёстками, тканью гостиной.
Напротив, словно вплотную, как если бы между собором и фасадом дома исчезла воздушная прослойка, громоздился литой торс Исаакия, надавливая на глаза фронтоном портика, западного.
Геометрия же всего, что выше, подчинялась капризу ракурса: золотой панцирь купола и даже ротонду искажал взгляд, мощные и будто бы незнакомые от кадрировки в оконной раме, будто бы преувеличенные проёмом-линзой формы косо уходили ввысь и, окунувшись в небо, где-то там завершались.
А прямо перед глазами – треугольник фронтона с когда-то собственноручно обмеренными модульонами (модульоны вблизи были неправдоподобно большими) и надписью по фризу: «Царю царствующих»; если же глянуть из окна вниз – к стилобату с циклопическими ступенями уходили, слегка сужаясь в перспективе, смугло-розовые, лоснившиеся, как ноги колоссов, стволы гранитных колонн.
Ступенчатый стилобат собора медленно, словно осторожничая, огибал синий троллейбус…
Так и не насытившись каменным зрелищем – столкнулись-таки снова лицом к лицу! – он неохотно отлипал от окна, сопропровождаемый боем часов, шёл в просторную, с большим овальным столом и старинным резным буфетом кухню, где она (назову её Лера) уже успела достать из холодильника зернистую икру, масло, помидоры, листья салата…
Вот и мельхиоровые ножи-вилки, тонкие фарфоровые тарелки с золотым кантом и – разумеется, баккара! – две пузатые рюмки. Оставалось только откупорить бутылку принесённого им и так любимого ею пятизвёздочного армянского коньяка.
Они по-домашнему, быстро и весело ужинали, но внешне – причёска, французская косметика, яркое блестящее платье, массивный браслет из чернёного серебра, ожерелье – Лера напоминала гостью дорогого и всегда модного ресторана, «Астории» например, чья неоновая реклама как раз зажигалась в белёсо гаснувшем небе – световая судорога пробегала по стеклянным трубчатым буквам, зависшим над горбатой железной крышей.
Утолив голод, с недопитой бутылкой шли в красную гостиную, по нынешним меркам даже не гостиную – залу с лепным карнизом, ветвистой люстрой из тёмной бронзы, тяжёлой мебелью, громоздкими часами с золотым маятником, бордовыми бархатными портьерами по сторонам высоких арочных окон и выбившейся из-под монументального бархата, парящей, планирующей, кувыркающейся на сквозняке тюлевой занавеской одного из окон, которую заманивали в полёт серенады летнего города, но которая, так и не вырвавшись на волю, обессилев, повисала за окном белым флагом…
Тем временем они торопливо раздевались, разбрасывая одежды свои по полу, спинкам кресел; развинчивались тугие замки браслета и ожерелья, как включённое реле, щёлкала последняя застёжка, а белые, в россыпи нежно-голубых незабудок трусики летели на массивный, точно колода для разрубки мясных туш, кожаный пуф. Впрочем, свалки из нарядов своих они уже не видели, весь этот тряпичный ералаш просто не существовал, так как они были уже в углу гостиной, за малиновой, из китайского шёлка, ширмой, своими ломаными плоскостями вырезавшей из большущей гостиной любовную капсулу с низкой деревянной кроватью – уютное в своей декоративной замкнутости, необходимое и достаточное им сейчас жизненное пространство.
Когда Лера внезапно, будто разом лопались все струны желания, затихала после рыданий счастья, Соснин, скатившись на спину, лениво разглядывал поверх ширмы упругие дуги окон, струящийся неверный свет белой ночи, плавно скользящие по высокому потолку сиреневатые тени, которые, постепенно размываясь, вливались в окутывающий люстру сумрак.
Иногда же любовный взрыв выбрасывал из пекла постели, его, невесомого, подхватывали прохладные воздушные потоки, нежно покачивали над площадью, как если бы под ним была та самая тюлевая занавеска. Бом-бом – ударяли, как казалось, где-то за пепельным оконным проёмом, часы. Для кого старались они? Несколько парочек, спасшихся от поливальной машины на островке партерного сквера, ничего не слышали и не видели, сидя в обнимку на длинных скамейках, а он одиноко облетал собор над чёрным мокрым асфальтом и крышами погружённого в сновидения города. Лишь однажды, глубокой ночью, когда часы пробили три раза, приоткрыл глаза и увидел потешную фигурку – этакого головастика в огромных очках-фарах, – которая, вспугнув стаю летучих мышей и сама сделавшись похожей на летучую мышь, рискованно зацепилась за карниз соборного портика, измеряя лентой металлической рулетки расстояние между модульонами…
Но тут воздушная зыбь перехлестнула умбристый ломкий горизонт крыш – неожиданно взлетев на гребень волны, увидел за силуэтом собора тускло отблескивавшую ширь Невы.
– Ну как, насладился, – очнувшись от обморока, спрашивала почему-то с утвердительной интонацией Лера и, не дожидаясь ответа, зажигала ночник.
И декорации преображались: освещался ближайший угол сцены, а заоконные мерцания, вкрадчивая игра теней вытеснялись за ярчайшую шёлковую преграду. Соснин и Лера оказывались внутри вспыхнувшего малинового фонарика, на абажуре которого оживали китаянки в кимоно с веерами и зонтиками, на фоне многоярусной, как стопка шляп с загнутыми кверху полями, пагоды.
Лера, ценившая любовный ритуал, очевидно, в интересах единства стиля тоже надевала висевшее на невидимой грани ширмы чёрное, заросшее голубыми хризантемами кимоно, с любопытством заглядывая в маленькое круглое зеркальце (то?), принималась прихорашиваться, взбивать причёску и даже опрыскивать тёмно-каштановое облако волос душистым лаком из портативного, наподобие ронсоновской зажигалки, пульверизатора. И отодвигалась ширма, на просторах гостиной ритуал вступал в новую фазу – расслабленно пили маленькими глотками коньяк, утопая в глубоких креслах у открытого, дышавшего ночной прохладой окна. Лера ставила рюмку на подоконник, тянулась, жмурилась от удовольствия и, поджав ноги, сворачивалась в кресле калачиком, а он, разрушая только что вылепленную причёску, благодарно и в то же время снисходительно гладил и теребил её волосы, рассматривая – не мог оторваться – настенную фотографию. Почему-то не сразу её заметил: Лера-школьница с длинными косами, в белом переднике, наверное, в день экзамена, у распахнутого окна, вот этого: слева, выбившись из-под тяжёлой складки портьеры, пыжится занавеска, справа, за плечом Леры, – залитый скользяще-боковым солнцем портик собора, обстроенный лесами; на лесах – несколько фигурок. А она – шести- или семиклассница?
Не в тот ли день сфотографировали её, когда она его ослепила?
Да, баловалась с зеркальцем, да, солнечный зайчик, да-да, совпадений было более чем достаточно…
Лера тянулась к рюмке; бом-м-м, бом-м, бом-м – как всегда внезапно ударяли часы. Проголодавшись, набрасывались на остатки еды, опять, словно вспомнив о чём-то важном, торопливо возвращались за ширму. Занимался рассвет, шатаясь, как сомнамбулы, натыкаясь на стулья и косяки дверей, они шлёпали анфиладой комнат в ванную, стояли, закрыв глаза, под пронзавшим раскалёнными иглами душем, смывали терпкий запах духов и пота, потом падали в сон.
У каждой индивидуальной судьбы свои, до поры до времени не прояснённые цели; поди-ка разберись, что их сблизило?
Соснин и Лера, до курьёзного не подходили друг другу. Помимо визуальной загадочности – вроде той, что позже окутывала Соснина и Киру – союз с Лерой был ещё и демонстрацией их внутренней несовместимости и, разумеется, разнонаправленных стилей жизни.
Соснин и сам понимал, что близость их скоротечна и эфемерна, как порхание бабочки или цветение пряного, тропического растения. Точнее, Лерино цветение, Лерино порхание, наверное, будут длиться, дурманить, кружить головы каких-то других счастливцев, а с него, может быть, хватит? Ощущая мимолётность экзотического приключения, Соснин не боялся скорого его окончания, ибо, жадно вдыхая концентрированный аромат благовоний, ощущал также нарастающую потребность лёгких в естественном, из кислорода с азотом, воздухе.
Стоило, однако, вернуться к началу.
Точно неотразимый ловелас, записывая на пятой минуте знакомства в коленце коридора её телефон и адрес, он, разумеется, сразу понял, что живёт она как раз напротив собора, что встреча их давно подготовлена – судьба лишь ждала часа? Перегруппировались звёзды, жизненные траектории пересеклись в заданной точке, у собора. «Любить иных – тяжёлый крест, – бубнил Соснил, – а ты прекрасна без извилин… Редкий экземпляр, ярчайший».
Ослепительная Лера и…
Что и говорить – нелепый союз.
Он был на несколько лет её старше, подавал надежды, ему прочили профессиональный успех, может быть, даже славу, но выглядел щуплым мальчиком – так, что-то среднее между выпускником школы и студентом: узколицый, со странно асимметричной причёской, одет, как уже говорилось, не модно, почти небрежно: мятые брюки, ковбойка, курточка, бумажный, растянувшийся на локтях свитер.
И – прекрасная Лера, всегда нарядная, избалованная роскошью.
Её раннее замужество быстро оборвалось. Лера ценила в институте брака только медовый месяц; её муж-гроссмейстер – да-да, самый настоящий гроссмейстер, не выдуманный – был восходящей звездой. Однако спортивной закалки ему, видимо, не хватило: на важном отборочном турнире, начавшемся, как назло, тотчас после свадьбы, он попадал в цейтноты, по ночам ему звонили секунданты, он долго, на каком-то птичьем языке обсуждал с ними отложенную позицию, игра явно не клеилась, Лера закипала – не могла и не хотела понять, почему надо из-за такой чепухи звонить по ночам?
Да, в их браке даже медовый месяц не задался! Новоиспечённому супругу пришлось второпях ретироваться, заставила его сделать рокировку, похохатывала запомнившая несколько ходких словечек Лера; впрочем, мы несколько отвлеклись.
Она была дорого и ярко одетой молодой дамой; если ухватиться за поверхностную аналогию – вычурно-сложно раскрашенной бабочкой. Меняющие форму и цвет причёски со скульптурными локонами на затылке и на висках, серебряным (чаще, чем синим или зелёным) макияжем век, румянами на скулах… А блестящие тафтовые складки, а плетёные туфли на нереально тонких шпильках, а кожаные сумки с эффектными золотыми пряжками, вышитые бисером кошельки, фантастические по тем скудным временам защитные, в черепаховой оправе очки, сферы которых, когда Соснин в них заглядывал, словно кривые зеркала, шаржировали лицо, фигуру – ну да, знай своё место, не зарывайся…
Цветовые и фактурные излишества и диссонансы, однако, ничего в облике Леры не разрушали, напротив – складывались в неожиданную гармонию, выражая её импульсивный, безалаберно-страстный характер и безудержный темперамент.
И еще духи («Шанели № 5» недоставало пряности, Лера предпочитала «Фиджи»!), малиновая, гладко ложащаяся на полные губы помада, идеальный персиковый цвет лица, здоровая бархатистая кожа, холёные руки, волнующий грудной голос.
Не только на свидание, но и на службу Лера одевалась так тщательно, будто отправлялась на какой-то важный, единственный в своём роде банкет.
Странно, конечно, что она вообще ходила на службу, но щупальца эмансипации обхватили и её. Лере вручили инженерный (!) диплом, распределили, однако и в рутине проектной конторы она нашла источник для удовольствий, заключив с конторским бытом взаимовыгодную конвенцию: вырядившись, ей удавалось ежедневно покрасоваться, кого-то покорить, поймать восхищённые взгляды; каждое её явление на службу было ещё и чисто гуманной акцией – сослуживцы жаждали зрелища, и она с царственной щедростью утоляла это желание.
Неудивительно поэтому, что Лера и не пыталась приспособиться к казённому интерьеру, она не знала разделения на карнавальное и будничное, она сама карнавал олицетворяла. В его кипение и затянулся, обварившись, Соснин.
Её облик настолько контрастировал с пуритански утончёнными в ту пору вкусами Соснина, настолько противоречил его идеалу небрежно-элегантной, чуть чокнутой, с налётом богемы женщины, что он, словно попав в сильное магнитное поле, неожиданно для себя и, наверное, из любопытства к ней потянулся, и тут же захотел увидеть её без мишуры, обнажённой. Внезапно осмелев, первым заговорил с ней в закутке коридора с закатанными серой масляной краской панелями стен.
На Лере в день знакомства было зелёное платье с глубоким вырезом, в который идеально вписывалось ожерелье; был ещё и массивный серебряный браслет с изумрудными камушками, а в ячейках ажурно выплетенных босоножек выделялись алые лепестки педикюра.
До чего же легкомысленным и весёлым получилось знакомство!
Как только, оттолкнувшись от печки, похвалил её туалет и ввязался в словесный танец, она ободряюще улыбнулась, а в журчании её голоса Соснин ощутил переполнявшие её желания и силы жизни. Внушительная и чуткая грудь медленно поднималась и опускалась, послушная ритму дыхания. Рассказывая Лере о жёлто-зелёных попугаях, которые живут около трёхсот лет, он почему-то испытал фантастическое торможение времени. Такого с ним ещё не случалось: время замерло, будто ожидалось что-то невероятное, и Соснину ничего другого не оставалось, как заполнить по своему усмотрению эту втиснувшуюся в ход вещей аморфную паузу; время стояло, он решил поинтересоваться пикантными деталями и, пока она заливалась смехом, заглянул в треугольную картинку, образованную вырезом платья и узорами ожерелья, и двинулся по узкой и глубокой расщелинке между нежными мерно вздымающимися куполами. Вскоре, однако, любопытство, остановленное плотиной дорогой ткани, было вынуждено продвигаться далее мысленно, предвкушая по пути приключения натурального путешествия и представляя заодно, как с нарочитой медлительностью будет вскоре выводиться слегка дрожащей рукой каждая буковка, когда он примется записывать её телефон и адрес.
– У уникальных попугаев незавидная судьба, – импровизировал Соснии, слегка поворачивая торчащую из стены решётчатую металлическую каретку с пупырчатым пожарным шлангом, свернувшимся в ней выпотрошенным питоном. – Рекордное для фауны долголетие попугаев, их практическое бессмертие, обуславливает смену ими многих хозяев, мрущих как мухи, вследствие чего в памяти попугаев откладывается так много всякой всячины, что на старости лет, смешивая языки и жаргоны, бедные птицы несут отчаянную тарабарщину.
– Это что-то наподобие эсперанто?
– Да, да, точное сравнение, – с готовностью прикинулся простаком, – хотя, пожалуй, не совсем точное, – он уже как бы логично размышлял вслух, озабоченно хмуря лоб, пока её душил смех. – В основе эсперанто лежат закономерности, которые нетрудно постигнуть, попугаи же, копировавшие всю долгую жизнь высказывания разных хозяев, в пору зрелости владеют уже таким количеством языков, диалектов, жаргонов, что избыточность лингвистической эрудиции, выражающейся в беспорядочном потоке слов, сливавшемся в шум, из которого, по правде сказать, нелегко извлечь смысл, сравнима, по сути, с утратой речи. Многих из птиц, – выкручивался, как мог, – можно, пусть и с натяжкой, назвать специфически образованными, однако их хозяева, люди, являющиеся, как и все люди, существами самонадеянными, попросту не принимают их всерьёз или не без ревности к ним относятся, ибо сами двух слов зачастую связать не могут, считают болтливых пернатых назойливыми и даже вредными бестиями, завидуя, конечно, втайне их декоративно-яркому, – «Как у меня?» – подыграла Лера, – оперению.
– Иное дело бабочки, – продолжал Соснин, поворачивая каретку с брезентовым шлангом и брандспойтом таким образом, чтобы нацелить стреловидный наконечник брандспойта в Лерино сердце – вооружён и очень опасен? Хохот. – Трепещите! – хохот. – Их яркость и красота радуют глаз, ни на что не претендуя, и люди, не чувствуя себя обойдёнными, относятся к ним – немым, лишь порхающим – вполне благосклонно и часто коллекционируют, дабы испытывать эстетическое наслаждение, – и тут, перескочив нетерпеливым взглядом стягивающий талию красный кушак, понял, что заинтересовавшая его в ландшафте бюста линия вместе с прочими соблазнами сейчас потеряется, стекая под одеждами в несколько самоуверенный таз, который поддерживали по-балетному крепкие и, очевидно, из-за перспективного искажения, чуть недобравшие в длине ноги, имевшие к тому же, если быть придирчивым, излишне подчёркнутый энтазис голени. Детали сложились, а она уже собралась произнести название улицы и номер дома. Он оставил в покое шланг с брандспойтом и, держа авторучку наготове и склонив голову к записной книжке, прежде чем услышать адрес, увидел чьи-то промелькнувшие мимо начищенные до блеска штиблеты. Когда же штиблеты, расползаясь, точно на льду, скрылись за коленом коридора, почувствовал, как по волосам горячим феном пробежало её дыхание. И снова кто-то взлохмаченный, возбуждённо споря с преследователем, пронёсся мимо, а тот, кто пытался догнать, на повороте смешно раскинул руки, будто бы делая ласточку; носятся тут все кому не лень, даже не поговорить…
– Как же определяют возраст попугаев?
– О, это исключительное искусство, породнившее лингвистику с криминалистикой и прогнозированием. Владеющие этим комплексным искусством очень хорошо зарабатывают. Здесь необходим особый талант аналитического толкователя упомянутого мной «шума». Некоторые из самых продвинутых аналитиков – высший пилотаж! – по уровню засорённости архаизмами и неологизмами птичьей речи определяют возраст с точностью до полугода, неудивительно, что каждое слово представителей этой редчайшей профессии на вес золота…
О проекте
О подписке