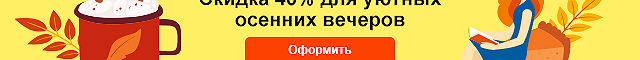
Преодоление
Классе, наверное, в седьмом мы учились во вторую смену. Была осень, октябрь месяц, смеркаться начинало часам к четырем, так что четвертый-пятый уроки без света проводить было уже невозможно. Учиться никому особенно не хотелось, и поэтому, когда к нам в класс на переменке забежал пацан по фамилии Куницын и, сунув в розетку нехитрое приспособление, устроил короткое замыкание, народ отреагировал на это событие радостно. Школа была переполнена, найти свободное помещение было нереально, поэтому нас отпустили домой.
Проделанный фокус с коротким замыканием так воодушевил бездельников, что пробки в нашем классе стали гореть каждый день. Неутомимый Куница старался вовсю. Он учился в одном из параллельных классов и был из числа тех, о ком говорили, что по нему давно «тюрьма плачет». Его боялись все. Не то чтобы он был очень силен и смел, но говорили, что этот пацан мог, недолго думая, и нож достать, да и в одиночку он никогда не ходил. Возле него неизменно кружились еще трое-четверо таких же шпанюков. Даже старшеклассники с ними не связывались. Куница говорил мало, не помню, чтобы он кому-нибудь угрожал, он просто молча бил, и если ему нужна была помощь, то вслед за ним на жертву набрасывалась вся его ватага.
Учителя устроили слежку за нашим классом, но уследить за хулиганом не могли. Однажды я остался на перерыве в классе, и в этот момент прошмыгнул Куница и, как обычно, закоротил розетку. Только он убежал, как влетает к нам учительница и кричит мне:
– Кто это сделал?! Немедленно отвечай!
Я огляделся по сторонам и обнаружил, что в классе, кроме меня, никого нет. И учительница понимала, что именно я был единственным свидетелем происшедшего. Разумеется, я сделал удивленное лицо и солгал, что не знаю этого человека.
– Не знаешь, ну что же, зато я наверняка знаю, что это все проделки Куницына.
Да, учительница попала в самую точку, только она не учла, что свидетелей нашего с ней разговора не было, и когда репрессии пали на голову хулигана, весь класс решил, что это я «сдал» учителям юного Робин Гуда. Вот тогда-то мне и пришлось испытать на собственной шкуре, что значит быть отверженным. Со мной перестали разговаривать, и были даже ребята, которые специально следили, чтобы со мной никто не общался. Одна из девочек в эти дни подошла ко мне и, назвав меня иудой, плюнула в лицо. Никакие мои попытки оправдаться в счет не принимались. Почему-то сделать больно мне старались именно те ребята, кого я пускай и не считал своими друзьями, но к кому всегда относился с неизменной симпатией.
Была еще одна причина плохого отношения ребят ко мне. Дело в том, что большая часть моих одноклассников происходила из семей, в которых отцы косвенно или напрямую подчинялись по службе моему отцу. Батя мой был еще тот служака. Я реально стал привыкать к нему только тогда, когда он уже вышел на пенсию, а до того я его практически дома-то и не видел. Болезненно честный и преданный армии человек, он и от своих подчиненных требовал такой же самоотдачи, а это нравилось далеко не всем. У моего отца был абсолютный авторитет, его уважали все, но, мягко говоря, не любили. Мужчины приходили домой, и в разговорах на кухнях жаловались женам на моего батю, а дети все это слышали, и, понятное дело, им хотелось отомстить. А кому они могли мстить? Только мне, поэтому драться приходилось часто. И ладно бы, если по-честному, один на один, так ведь порой подкупали ребят из старших классов, и тогда мне приходилось совсем худо.
И случай с Куницей не преминули использовать. Короче говоря, уже на следующий день я увидел его, идущего мне навстречу. Без лишних выяснений он с ходу ударил меня по лицу. Честно скажу, боялся я его и раньше сторонился их компании, а теперь совсем страшно стало. И так весь класс от меня отвернулся, а здесь еще и Куница с дружками. Когда он приходил меня бить, сбегался весь класс и, окружив нас, с интересом, словно в цирке, наблюдал за экзекуцией. И никто за меня не заступился, ни разу. Все переменки и особенно возвращение домой из школы превратились для меня в муку, я вынужден был постоянно прятаться и заранее продумывать пути отхода.
В нашем классе учился мальчик, Сережа Мод, он пришел к нам совсем недавно. Я так и не понял, кто он по национальности, но, видимо, в его жилах текла и южная кровь, потому что, в отличие от нас, Сережа уже брился. Его плечи развернулись и налились силой, и он больше походил на молодого мужчину, чем на ученика седьмого класса. И вот однажды, сразу же после очередного моего избиения, он вдруг подошел ко мне и незаметно шепнул:
– Не бойся Куницу, дай ему, а дружков, если что, я беру на себя.
Сережа, дорогой мой, никогда я тебе этого не забуду. Словно крылья выросли за моей спиной, и я побежал догонять моего палача. Тот уже возвращался по коридору в свой класс походкой уверенного в себе человека, делающего грязную, но необходимую работу. И когда я догнал его и резко развернул на себя, то от удивления у него открылся рот. И вот в этот самый рот изо всех своих сил я послал первый удар, а потом бил его, Господи, как же я его бил. Никогда, ни до, ни после мне не приходилось так бить человека. Потом, вспоминая те минуты, я понимал, что бил его с чувством огромной радости и даже счастья, вмещая в несильные тогда еще удары весь свой страх, всю свою обиду за всю ту неправду, которую учинили со мной мои товарищи. Но так некстати прозвенел звонок, и учителя с трудом оторвали меня от его тела. А я не мог насытиться.
На следующей перемене Куница, побитый и удивленный, вместе с дружками пришел снова. И я молча побежал к нему, точно боясь, что он передумает и уйдет. В этот раз я снова бил его, бил головой о стену, а потом спустил с лестницы. С того дня я перестал бояться. Еще раз на следующий день Куница попытался было, гипнотизируя меня своим холодным взглядом, вернуть утраченные позиции, но, в очередной раз получив отлуп, полностью исчез из моей жизни.
Потом я наподдал еще двоим-троим моим бывшим товарищам, наиболее отличившимся в те дни, и ушел из школы. Не мог я больше учиться вместе с ними, меня мутило от одной только мысли, что приду снова в класс и вновь увижу эти лица. Я уходил с гордо поднятой головой, неплохими оценками по предметам и двойкой по поведению.
Одна-единственная встреча произошла у нас с Куницей уже спустя много лет. Ведь в любом романе рано или поздно старые враги встречаются снова, на так называемой «узенькой дорожке». И эта встреча должна была когда-то случиться, и она случилась. К тому времени я уже успел окончить институт и только-только вернулся из армии.
Была декабрьская ночь, проводив девушку, я возвращался домой. Иду задворками, место темное, и всего один тускло горящий фонарь. Дорожка действительно узкая, двоим не разойтись. Под фонарем стоит кучка молодых людей, а на дорожке – Куница. Я сразу узнал его, но не сворачиваю с дороги и иду прямо на него. Чувствую, что и он узнал меня, смотрит своим привычно холодным немигающим взглядом. Возмужал, стал шире в плечах, наверное, уже и на зоне побывал.
Иду ему навстречу и понимаю, что я его не боюсь, пускай рядом с ним его неизменные дружки и в карманах конечно же ножи, тогда это у нас было в обычае, но страха нет. Не знаю, может, Куница и высматривал у меня в глазах присутствие страха, а если бы увидел, то и бросился бы на меня. Но нет, метра за два, как мне подойти, он вдруг резко отошел в сторону и отвел взгляд.
Я понял, что снова победил его, но только еще прежде, за несколько лет до этой нашей с ним встречи, я победил себя. Победив себя, заставил его бояться и уважать меня.
Сидим в трапезной с отцом Виктором, пьем чай и рассуждаем на высокие материи. Поговорили, кстати, и о страхе, о необходимости преодоления мальчиком этого чувства еще в детстве, чтобы не потянулось оно за ним во взрослую жизнь. И о том, как индивидуальны пути преодоления внутреннего присущего нам чувства самосохранения, граничащего с таким пороком, как трусость. Ведь и на самом деле, откуда берутся трусы?
Вот, помню, давно уже как-то смотрели мы чеченскую хронику.
Идет отряд моджахедов – большой, человек в пятьсот. И вдруг откуда-то сбоку начинает строчить по ним одинокий пулемет, кого-то посекло пулями, другие стали отстреливаться и довольно быстро подавили ответным огнем одинокую точку сопротивления. Пулемет замолчал, а навстречу бандитам приближается фигурка нашего солдата с высоко поднятыми руками. В руках автомат.
– Не стреляйте! – кричит солдат. Подходит ближе. – Вот смотрите, я не сделал в вашу сторону ни одного выстрела, я не стрелял, это они стреляли. – показывает он в сторону погибших пулеметчиков, – а я нет!
К несчастному солдатику подошел бородатый чечен и, резко развернув его на себя, перерезал под общий смех парню горло. Трусов не уважают нигде. Хотя, по свидетельству знакомых спецназовцев, и среди горцев храбрецов на самом деле ничуть не больше, чем среди наших ребят.
Мы разговаривали с отцом Виктором и пытались понять, когда мальчик становится воином. И пришли к выводу: тогда, когда в его жизни появляется то, ради чего он способен пожертвовать собственной жизнью. Мы ведь как говорим? Что самое дорогое у человека – это его собственная жизнь. Вот такой человек, что ценит свою жизнь больше всего остального, на самом деле очень опасный человек. Именно среди таких людей бывает самый высокий процент предателей и подлецов.
Так вот, для настоящего воина высшее состояние – это готовность положить душу свою за други своя, а иначе он не воин. Самое большее – наемник, а наемник в конце концов обречен на поражение, даже если остается жить.
Я рассказал отцу Виктору ту историю из моего прошлого, ставшую для меня своеобразной чертой, под которой закончилось детство и начался процесс становления мужчины. А батюшка продолжил:
– Мне твой рассказ напомнил случай из моей собственной юности. В свое время я был призван в армию и служил в одной из десантно-штурмовых бригад. Когда начались события в Карабахе, нас в срочном порядке перебросили в те места. И мы вступили в боевые столкновения с противником. Причем воевали там не столько армяне с азербайджанцами, сколько мы с турками.
Как только Союз стал давать трещину, так наши соседи сразу же стали пробовать нас на прочность. Сейчас нередко можно услышать: ну зачем мы воюем на Кавказе, отдайте Кавказ кавказцам, пускай они сами между собой и разбираются или зачем мы втянулись в войну за Цхинвал, зачем там своих людей кладем? Бать, ты этих людей не слушай. Если мы хотим выжить, нам придется воевать. Если не будем воевать в Южной Осетии, значит, будем воевать на всем Кавказе, не станем воевать на Кавказе, война придет в Москву. И это все уже было на нашей с тобой памяти.
Так вот, отче, моя группа, а я в то время был сержантом-срочником, мне тогда еще и двадцати не было, совершала рейды по тылам противника. Мы устраивали диверсии, взрывали склады с боеприпасами, мосты, базы с горючкой.
Однажды, уже выполнив задание, возвращались домой. Не стану посвящать тебя в подробности, но насолили мы противнику крепко, поэтому и бросились они за нами в погоню, отомстить решили.
Мы спешно отходили, стараясь не вступать ни в какие стычки. И вот во время отхода один из моих бойцов, Дима, подрывается на мине. Взрывом ему оторвало пятку. Что было делать? Сам понимаешь, в нашей ситуации или погибать всем, или ему одному. Мы перевязали раненого и оставили ему в дополнение к его боезапасу пистолет, на случай «если». И отряд пошел дальше, погоня уже дышала нам в спину.
И в этот момент, когда мы тронулись в путь, а он остался, я понял, что не могу его бросить. Вот не могу, и все. Не смогу я тогда жить дальше, есть, пить, не смогу, если брошу. И я остался. У нас уже тогда было с собой специальное средство, от которого человек переставал чувствовать боль и усталость, и даже при ранении мог двигаться своим ходом. Я ввел его Диме, и мы пошли. Конечно, догнать отряд мы не смогли бы ни при каких условиях. Дима где-то шел, а где-то я волок его на себе.
Единственное, чем могли нам помочь ребята, так это тем, что пошумели и увели погоню за собой. Поэтому мы и смогли несколько дней спокойно «ковылять» по направлению к своим. Дима мог идти, наступая только на одну ногу, а на другую я соорудил ему что-то наподобие костыля. Он шел, повисая на мне. И я время от времени вводил ему средство обезболивания, чтобы он не терял сознания.
Те, кто преследовал отряд, не смогли догнать наших ребят, зато они вычислили нас с Димой. Зная, что у нас раненый, они понимали, что диверсионная группа, будь раненый в основном составе, не смогла бы уйти от преследования. Тело они не нашли, значит, кто-то каким-то образом должен еще пробиваться назад вместе с ним, отдельно от остальных.
Тогда они просто рассчитали путь, которым мы пойдем, и двое суток ждали нас. Мы, по всей логике вещей, должны были выйти и двигаться по одному неглубокому ущелью. Обойти его с раненым на руках было невозможно, и противник занял позицию наверху по стенам ущелья с обеих сторон.
Я шел и волок Диму на себе, он у меня что-то уже лопотал в бреду. Мы вошли в ущелье, и только тогда я увидел их. Они стояли, совершенно не прячась, наверху, по стенам слева и справа. Я, вскинув автомат, продолжал идти и тащить друга. Потом опустил оружие, понимая, что сопротивляться бесполезно, мы были как на ладони. Что делать? И я решил не останавливаться. Если попытаются взять в плен, то у меня была граната. Мы шли, и я ждал, когда они начнут стрелять. Но они не стреляли. Вот мы прошли уже половину пути, и было так тихо, что я слышал, как бьется мое сердце, а оно готово было выскочить из груди. Может, они не хотят стрелять нам в лицо и расстреляют потом в спину? Это невыносимо тяжело: медленно идти под прицелом автоматов, каждый шаг как последний. И только ждешь: когда?
Наконец мы прошли все ущелье, и только тогда я остановился и оглянулся назад. По стенам никого не было. Они ушли, так и не выстрелив.
Когда мы добрались до своих, было столько ликования. Дима сейчас живет недалеко от Нижнего, я потом с ним встречался.
И знаешь, правильно говорят, что жизнь порой поворачивает круче любого романа. Уже давно закончилась та война, давно распался Союз. Дело было в Москве, я тогда служил старшим лейтенантом, и мой взвод охранял встречу представителей закавказских республик. Там я и познакомился с одним из сотрудников охраны азербайджанской делегации. Разговорились, и я сказал ему, что еще мальчишкой воевал в Карабахе. Он обрадовался и сказал, что тоже принимал участие в той войне. Мы разговорились и стали перечислять места, где участвовали непосредственно в боях. И представляешь, оказалось, что он был командиром той самой группы, что устроила нам тогда засаду. Мы с ним даже обнялись. Он-то мне и рассказал, как они нас ждали.
– Почему же вы не стреляли? – спрашиваю.
– Потому, что я команду не дал стрелять, – отвечает.
– А почему ты не дал команду?
– А тебе бы хотелось, чтобы я ее дал, да?! Сам понять не могу, не дал, и все тут, но только не из жалости. – Помолчали. – И знаешь, когда мы возвращались, меня никто из бойцов не спросил: почему мы не стали стрелять? И еще, самое главное. Меня никто не сдал начальству. Я смотрю, в лейтенантах ходишь? Не много же ты наслужил в новой России. Что, уже скоро на пенсию? Хотя, – он махнул рукой, – таким, как мы с тобой, никогда не выслужится до высоких чинов.
Прощаясь, мы еще раз обнялись, и он сказал:
– А все-таки хорошо, что я тогда не стал стрелять. Ведь это то немногое, брат, за что и мне сегодня не стыдно ходить по земле.
О проекте
О подписке